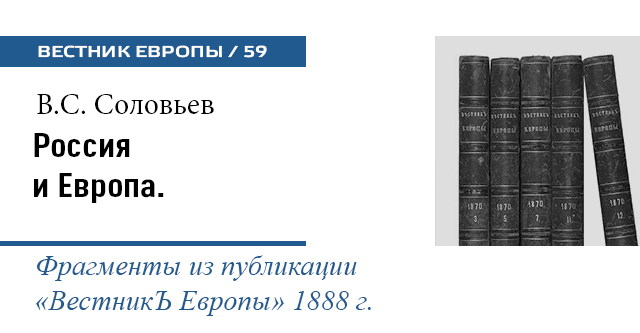
К <…> теориям, старающимся закрепить современную им действительность, придавая ей более определенный и систематический характер, принадлежит воззрение, изложенное с такою обстоятельностью в книге покойного Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». По мнению ее почитателей, книга эта есть «катехизис или кодекс славянофильства». Автор стоит всецело и окончательно на почве племенного и национального раздора, осужденного, но еще не уничтоженного евангельскою проповедью. Мысль русского писателя не имеет крыльев, чтобы подняться хотя бы лишь в теории над этою темною действительностью. Задача его в том, чтобы возвести существующую в человечестве рознь в закругленную и законченную систему и вывести из этой системы некоторые практические «постулаты» для той дроби человечества, к которой принадлежит сам автор.
Разделение людей на племена и нации, ослабленное до некоторой степени великими мировыми религиями и замененное делением на более широкие и более подвижные группы, возродилось в Европе с новою силою и стало утверждаться как сознательная и систематическая идея с начала истекающего столетия. Прежде всех отличился в этом деле знаменитый Фихте, который, установив в своей «Wissenschaftslehre» отвлеченно-философский эгоизм или «солипсизм» сознающего Я, перешел в «Речах к немецкому народу» на почву более широкого, но все-таки произвольного и отталкивающего эгоизма национального. После наполеоновских войн принцип национальностей сделался ходячею европейскою идеей. Эта идея заслуживала всякого уважения и симпатии, когда во имя ее защищались и освобождались народности слабые и угнетенные: в таких случаях принцип национальности совпадал с истинною справедливостью.
Всякая народность имеет право жить и свободно развивать свои силы, не нарушая таких же прав других народностей.
Это требование равного права для всех народов вносит в политику некоторую высшую нравственную идею, которой должно подчиниться национальное себялюбие. В этой высшей идее все народы солидарны между собой, и в меру этой солидарности человечество уже не есть пустое слово. Но, с другой стороны, это возбуждение национального самочувствия в каждом народе, особенно же в народах более крупных и сильных, благоприятствовало развитию народного эгоизма или национализма, который уже ничего общего с справедливостью не имеет и выражается совсем в иной формуле. «Наш народ есть самый лучший изо всех народов, и потому он предназначен так или иначе покорить себе все другие народы или, во всяком случае, занять первое, высшее место между ними». Такою формулой освящается всякое насилие, угнетение, бесконечные войны, все злое и темное в истории мира.
И жизнь, и теория как-то очень легко и незаметно подменивают справедливую и человечную формулу национальной идеи формулою насилия и национального убийства. Далеко не все глашатаи этой идеи проповедуют прямо покорение и уничтожение чужих народов; но есть для этого обходный способ, более мягкий по виду, хотя столь же убийственный по духу. «Наш народ по самому ходу истории и по естественному преемству национальных культур должен сменить все прочие отжившие или отживающие народы». «Смена» эта тоже не обходится без жестокой кровавой борьбы и разных национальных убийств, но окончательный результат достигается как будто сам собою. Такую смягченную формулу национального эгоизма восприняли от немцев наши славянофилы, применившие к России то, что их учителя присваивали германизму, — систематически же разработал у нас это воззрение автор «России и Европы». Между ним и прежними славянофилами есть, однако, различие, на которое он сам указывает, хотя не всегда его соблюдает. Те утверждали, что русский народ имеет всемирно-историческое призвание, как носитель всечеловеческого окончательного просвещения; Данилевский же, отрицая всякую общечеловеческую задачу, считает Россию и славянство лишь особым культурно- историческим типом, — однако наиболее совершенным и полным (четырехосновным, по его терминологии), совмещающим в себе преимущества прежних типов. Разногласие, таким образом, выходит только в отвлеченных терминах, не изменяющих сущности дела. Должно, однако, заметить, что коренные славянофилы (Хомяков, Киреевский, Аксаковы, Самарин), не отвергая всемирной истории и признавая, хотя лишь в отвлеченном принципе, солидарность всего человечества, были ближе, чем Данилевский, к христианской идее и могли утверждать ее, не впадая в явное внутреннее противоречие.<...>Зато Данилевский имеет несомненное преимущество в выражении национальной идеи. Для прежних славянофилов эта идея была по преимуществу предметом поэтического, пророческого и ораторского вдохновения. Они ее воспевали и проповедовали. С другой стороны, в последние годы та же идея стала предметом рыночной торговли, оглашающей своими полуживотными криками все грязные площади, улицы и переулки русской жизни. <...>Против поэзии и красноречия спорить нельзя. Бесполезно также препираться с завывающим и хрюкающим воплощением национальной идеи. Но, кроме этих двух крайностей, мы имеем, благодаря книге Данилевского, спокойное и трезвое, систематическое и обстоятельное изложение этой идеи в ее общих основах и в ее применении к России. Эмпирик и реалист по складу своего ума, естествоиспытатель и практический деятель, Н. Я. Данилевский был чужд и философского идеализма, и поэтической фантазии, резко отличаясь этим от главных славянофилов, большею частью поэтов, воспитанных на гегелевской диалектике. Но, с другой стороны, обладая, как и они, крупным умственным дарованием и безукоризненным нравственным характером, автор «России и Европы» примыкает к лучшим представителям славянофильства и целою бездною отделяется от торжествующего ныне площадного патриотизма и национализма. Если против сего последнего единственно действительное средство есть соблюдение опрятности, то обдуманная и наукообразная система национализма, разработанная в сочинении Данилевского, заслуживает и требует серьезного критического разбора.
Множественность самобытных культурно-исторических типов, вместо единого человечества; независимое и отдельное развитие этих типов, вместо всемирной истории; затем, Россия (со славянством) как особый культурно-исторический тип, совершенно отличный от Европы, и притом тип высший, самый лучший и полный — вот главные положения в книге «Россия и Европа». Опровергать эти положения с точек зрения христианской и гуманитарной (которые в этом случае совпадают) мы теперь не станем. Мы будем спрашивать не о том, насколько эта теория национализма нравственна, а лишь о том, насколько она основательна.
Во-первых, посмотрим, есть ли какие-нибудь фактические основания приписывать России значение целого культурно-исторического типа, отдельного — и в этой отдельности высшего по отношению к Европе; а во-вторых, исследуем вопрос, насколько самое деление человечества на культурные типы в смысле Данилевского соответствует исторической действительности. Главным материалом для нашей критики послужит книга «Россия и Европа».<…>
В сельской общине и крестьянском наделе Данилевский видит «общественно-экономическое устройство, справедливо обеспечивающее народные массы», и это, по его мнению, составляет главную основу русско-славянского культурно-исторического типа, важнейший залог нашей будущности. <...>Обладает ли Россия преимуществом такого строя?
_________________________
По примеру самого Данилевского, мы будем иногда для краткости говорить просто «Россия» вместо «русско-славянский мир» или «Россия и славянство».
<...>В самом русском народе замечается стремление отделаться от общинного владения, и это запоздалое учреждение было бы окончательно потрясено (как уже и случилось со сродною формой задруги у южных славян), если бы государство не поддерживало его своим законом. Мы полагаем, что, взяв на первое время под свою защиту эту элементарную общественную форму, наше правительство выказало большую мудрость. Затруднивши частное отчуждение крестьянских земель, наш закон избавил всех слабых и беспечных крестьян (т. е. значительное большинство) от немедленного разорения и кабалы. Но если для государства было очень выгодно не допустить внезапно народиться целому классу бездомных нищих, то от этой выгоды — еще очень далеко до окончательного предохранения народа от пауперизма. Общинное землевладение само по себе, как показывает статистика, совсем не благоприятствует успехам сельского хозяйства. Община обеспечивает каждому крестьянину кусок земли, но она никак не может обеспечить ему урожая или возвратить производительные силы истощенной почве.
Тем не менее наш автор уверенно и настойчиво противопоставляет Россию с ее крестьянским наделом безземельному населению Европы. Для прямой и полной противоположности в этом отношении следовало бы вместо Европы взять одну только Англию. Но эта страна (которая скорее есть всесветная держава, нежели одна из частей Европы) находится в условиях совершенно исключительных. <...>А для прочей Европы безземельность крестьянства далеко не есть безусловное правило, и контраст с Россией здесь вовсе не так полон. На всем европейском материке сельское население в известной мере участвует во владении землей, не говоря уже о таких странах, где крестьяне суть единственные поземельные собственники (Норвегия). Впрочем, каково бы ни было социально-экономическое положение Европы, на одних чужих недостатках и бедствиях нельзя строить здание нашего будущего. <...>
Можно признавать в духовном складе русского народа задатки или возможности лучшего общественного строя, но никаких условий для перехода этих возможностей в действительность — ни в современной жизни, ни в теории нашего автора — мы не найдем. Но предположим, что эта теория грешит только преувеличением значения общественно-экономического элемента в будущем русско-славянского мира.<...> Быть может, Россия призвана к обширному и самобытному творчеству преимущественно в области высшей, духовной культуры, в области науки, философии, литературы и искусства? Посмотрим, есть ли какие-нибудь фактические основания для такого предположения.<...>
Хотя русская наука, которая серьезно началась только с Ломоносова († 1765), имела меньше времени для своего развития, нежели наука Западной Европы, но зато у нас было здесь великое преимущество: наши ученые могли работать на расчищенной почве, строить на крепком фундаменте. Западная наука (я разумею преимущественно науки точные) при начале своем не имела никакого руководства, кроме элементарных и отрывочных опытов древнегреческих писателей, коих работы не только по своим результатам, но также по задачам и приемам были весьма далеки от настоящей науки. <...>Разница тут была в известном отношении такая же, как между изобретением письмен и усвоением уже готового алфавита. Эту огромную разницу нужно принять прежде всего в расчет, чтобы правильно оценить предполагаемые задатки самобытной науки в России. Русские несомненно оказались весьма способными ко всем наукам. Эта способность, в соединении с превосходною школой, которую нам можно было пройти, позволяла надеяться, что в течение столетия — при чрезвычайной быстроте новейшего умственного движения — наша нация произведет чудеса в области науки. Действительность не оправдала таких надежд, и известное желание Ломоносова остается и до сих пор лишь «благочестивым желанием». Рожденная под самыми счастливыми созвездиями, русская наука не озарила мир новым светом.<...>Вместе с тем, со стороны результатов труды наших первоклассных ученых, при всех своих достоинствах, не имеют настолько глубокого и обширного значения, чтобы влиять определенным образом на общий ход научного развития или составить эпоху в истории хотя бы отдельных наук<…>Что люди славянского племени, как и люди прочих племен земных, способны с большим или меньшим успехом заниматься наукой — это, кажется, доказательств не требовало. А что Россия (со славянством) образует и со стороны науки особый культурно -исторический тип, т. е. что она способна и призвана создать вне европейской науки свою особую, самобытную славяно-русскую науку, — это весьма нуждалось бы в доказательствах, но их у нашего автора не находится. <...>Если же оставить всякое предубеждение и всякие произвольные гадания и фантазии, то, на основании 140-летнего опыта, можно прийти лишь к одному несомненному заключению, а именно, что русские способны участвовать в общеевропейской научной деятельности приблизительно в такой же мере, как шведы или голландцы.<...>
ХХХ
Один из первых (по времени) схоластиков — Rabanus (или Hrabanus) Maurus, в сочинении своем «De nihilo et tenebris» («О ничем и о мраке»), между прочим, замечает, что «небытие есть нечто столь скудное, пустое и безобразное, что нельзя достаточно пролить слез над таким прискорбным состоянием». Эти слова чувствительного монаха невольно вспоминаются, когда подумаешь о русской философии. Не то чтобы она прямо, открыто относилась к категории «небытия», оплаканного Рабаном Мавром: за последние два десятилетия довольно появлялось в России более или менее серьезных и интересных сочинений по разным предметам философии. Но все философское в этих трудах вовсе не русское, а что в них есть русского, то ничуть не похоже на философию, а иногда и совсем ни на что не похоже. Никаких действительных задатков самобытной русской философии мы указать не можем: все, что выступало в этом качестве, ограничивалось одною пустою претензией.
А между тем русские несомненно способны к умозрительному мышлению, и одно время можно было думать, что философии предстоит у нас блестящая судьба. Но русская даровитость оказалась и здесь лишь восприимчивою способностью, а не положительным призванием: прекрасно понимая и усваивая чужие философские идеи, мы не произвели в этой области ни одного значительного творения, останавливаясь, с одной стороны, на отрывочных набросках, а с другой стороны, воспроизводя в карикатурном и грубом виде те или другие крайности и односторонности европейской мысли.<...> Но, наблюдая особенности нашего национального характера, легко заметить, что чисто русский даровитый человек отличается именно крайним недоверием к силам и средствам человеческого ума вообще и своего собственного в частности, а также глубоким презрением к отвлеченным, умозрительным теориям, ко всему, что не имеет явного применения к нравственной или материальной жизни. Эта особенность заставляет русские умы держаться по преимуществу двух точек зрения: крайнего скептицизма и крайнего мистицизма..<…>
Более основательные надежды на великую будущность возбуждает, по-видимому, русская действительность в области изящной литературы и искусств. Русский роман пользуется в последнее время громкою известностью в Европе. Наши лучшие писатели не только высоко ценятся тамошними знатоками, но и приобретают популярность в широких кругах образованного и полуобразованного европейского общества. В области чистой поэзии у нас, кроме Пушкина и Лермонтова, есть несколько лириков, которыми могла бы гордиться любая европейская литература. Произведениями искусства (в тесном смысле) Россия менее богата. Однако есть у нас гениальный композитор Глинка, а в области живописи, кроме нескольких замечательных пейзажистов и портретистов, мы имеем — если верить славянофилам — одну великую историческую картину — Иванова: «Явление Христа народу». Конечно, всего этого еще слишком мало для особого культурно-исторического типа, который (по воззрению нашего автора) должен соперничать не с какою-нибудь отдельною европейскою нацией, а с целою Европой, со всею совокупностью романо-германских народов. Но так как дело идет о культурно-историческом типе, еще только слагающемся, то сделанное нами в литературе и искусствах могло бы несомненно представлять хороший положительный задаток великого будущего.
Но для того чтобы можно было здесь признать такой задаток или зародыш, безусловно необходимо, чтобы русское эстетическое творчество находилось в прогрессивном развитии, чтобы оно продолжало следовать по восходящей линии. Так ли это на самом деле?
Когда у нас так возгордились блестящим успехом русских романистов за границей, никто, кажется, не заметил одного обстоятельства, что этот успех представлял собою лишь громкое эхо нашей минувшей славы. Кто они в самом деле, эти писатели, которым так рукоплещет Запад? <...>Как доказать, что кульминационный пункт политического могущества не был уже достигнут Россией, когда после целого столетия военных и дипломатических успехов эта держава вступила в гигантскую борьбу со всеми силами Запада, предводимыми Наполеоном I, и, восторжествовав в этой борьбе, приобрела политическую гегемонию над целою Европой? И вот, согласно «историческому закону», за величайшим торжеством нашего оружия последовал золотой век нашей литературы.
Как бы то ни было, применять или не применять к России воображаемые исторические законы, несомненным остается то, что особый, внеевропейский русско-славянский культурный тип, с своею особенною наукой, философией, литературой и искусством, есть лишь предмет произвольных чаяний и гаданий, ибо никаких положительных задатков новой самобытной культуры наша действительность не представляет. <...>
XXX
Утверждаясь в своем национальном эгоизме, обособляясь от прочего христианского мира, Россия всегда оказывалась бессильною произвести что-нибудь великое или хотя бы просто значительное. Только при самом тесном, внешнем и внутреннем общении с Европой русская жизнь производила действительно великие явления (реформа Петра Великого, поэзия Пушкина). Это не мешает, конечно, России представлять и на пути национального обособления многие оригинальные черты, не свойственные никакой другой европейской нации. Вопрос лишь в том, насколько ценны эти оригинальные черты. Огромная Китайская империя, несмотря на все сочувствие к ней Данилевского, не одарила и, наверное, не одарит мир никакою высокою идеей и никаким великим подвигом: она не внесла и не внесет никакого вековечного вклада в общее достояние человеческого духа. Это не препятствует, однако, китайцам быть чрезвычайно оригинальным и весьма изобретательным народом. <...>Россия со времен Петра Великого имеет перед Китаем то несомненное преимущество, что наши войска и крепости снабжены настоящими европейскими орудиями, а роль картонных пушек и фантастических драконов для устрашения Европы предоставлена исключительно патриотической журналистике. И если, с другой стороны, мы не изобрели даже плохого пороха и плохого книгопечатания, подобно китайцам, то все-таки в разных оригинальных отличиях у нас нет недостатка. Не перечисляя их всех, укажу на одну, по-видимому, мелкую, но чрезвычайно характерную особенность. В то время как все европейские нации пользуются исправленным григорианским календарем, мы продолжаем упорно держаться старого юлианского, отставая от Европы и от солнца на 12, а скоро и на 13 дней. Оригинальность наша состоит здесь, впрочем, лишь в предпочтении плохого хорошему, так как самое это плохое не есть наше собственное, а тоже общеевропейское или общечеловеческое, но только оставленное другими за негодностью.
Эта оригинальная черта в области бытовой вспомнилась мне по поводу такого же оригинального явления в области русской мысли. Идея племенных и народных делений (принятая как высший и окончательный культурно-исторический принцип) столь же мало, как и юлианский календарь, принадлежит русской изобретательности.
Со времен вавилонского столпотворения мысль и жизнь всех народов имели в основе своей эту идею национальной исключительности. Но европейское сознание, в особенности благодаря христианству, возвысилось решительно над этим, по преимуществу языческим началом и, несмотря даже на позднейшую националистическую реакцию, никогда не отрекалось вполне от высшей идеи единого человечества.
Схватиться за низший, на 2000 лет опереженный человеческим сознанием языческий принцип суждено было лишь русскому уму. Видеть в этом попятном движении мысли какую-нибудь положительную, а не «дефективную» только оригинальность, искать здесь проявления или хотя бы только предвещания нашей духовной самобытности было бы так же неосновательно, как и гордиться верностью России негодному юлианскому календарю. Достойно ли великого народа проявлять свою оригинальность в том, чтобы противоречить разумному ходу истории или течению светил небесных?
Тот обширный и законченный период в жизни исторических народов, который называется древнею историей, рядом с господством национального сепаратизма представляет, однако, несомненное движение вперед в смысле все большего и большего объединения чуждых вначале и враждебных друг другу народностей и государств. Те нации, которые не принимали участия в этом движении, получили тем самым совершенно особый антиисторический характер, и сам Данилевский поневоле должен отнести эти нации в особую группу под названием уединенных культурно-исторических типов в противоположность типам преемственным.
Останавливаясь на этих последних, мы видим, что политическая и культурная централизация не ограничивалась здесь отдельными народами, ни даже определенными группами народов, а стремилась перейти в так называемое всемирное владычество, и это стремление действительно приближалось все более и более к своей цели, хотя и не могло осуществиться вполне. <…> Итак, вместо простой смены культурно-исторических типов древняя история представляет нам постепенное их собирание чрез подчинение более узких и частных образовательных элементов началам более широкой и универсальной культуры. Под конец этого процесса вся сцена истории занимается единою Римскою империей, не сменившею только, а совместившею в себе все прежние преемственно выступавшие культурно-исторические типы. Вне этой воистину всемирной империи остаются или отживающие свой век уединенные культурные типы, или же бесформенная масса диких и полудиких племен. Но еще важнее этого внешнего объединения исторического человечества в Римской империи было развитие самой идеи единого человечества. Среди языческого мира эту идею не могли выработать ни восточные народы, слишком подчиненные местным условиям в своем мировоззрении, ни греки, слишком самодовольные в своей высокой национальной культуре и отождествлявшие человечество с эллинизмом (несмотря на отвлеченный космополитизм кинической и стоической школы). Величайшие представители собственно греческой мысли, Платон и Аристотель, не были способны подняться до идеи единого человечества. Только в Риме нашлась благоприятная умственная почва для этой идеи: с полною определенностью и последовательностью ее поняли и провозгласили римские философы и римские юристы.
Тогда как великий Стагирит возводил в принцип и объявлял навеки неустранимою противоположность между эллинами и варварами, между свободными и рабами, такие, сравнительно с ним
_________________________
* Говорю «языческого», ибо у евреев, помимо их великих пророков, уже в древнейшем памятнике их истории все человечество представлено как род одного человека: зэ сэфер тол'дот адам (Быт. V, 1).
неважные, философы, как Цицерон и Сенека, одновременно с христианством возвещали существенное равенство всех людей. «Природа предписывает, — писал Цицерон, — чтобы человек помогал человеку, кто бы тот ни был, по той самой причине, что он человек» (hoc natura praescribit, ut homo homini, quicumque sit, ob earn ipsam causam quod is homo sit, consultum velit). – «Должно сходиться в общении любви со своими, за своих же почитать всех соединенных человеческою природою». «Мудрый признает себя гражданином всего мира, как бы одного города» – «Все мы, — пишет Сенека, — члены одного огромного тела. Природа хотела, чтобы мы все были родными, порождая нас из одних и тех же начал и для одной и той же цели. Отсюда происходит у нас взаимное сочувствие, отсюда общительность; справедливость и право не имеют иного основания. Общество человеческое похоже на свод, где различные камни, держась друг за друга, обеспечивают прочность целого». Уже Цицерон, исходя из идеи солидарности всего человечества, заключал, что права войны должны быть ограничены. Сенека же осуждает войну безусловно. Он спрашивает, почему человек, убивающий другого, подвергается наказанию, тогда как убийство целого народа почитается и прославляется? Разве свойство и имя преступления изменяются от того, что его совершают в воинской одежде? С той же точки зрения Сенека самым решительным образом восстает против боя гладиаторов и провозглашает за семнадцать веков до Канта, что человек не может быть только средством для человека, а имеет свое собственное неприкосновенное значение: homo res sacra homini (человек — святыня человеку). Этот принцип Сенека распространяет как на чужеземцев, так и на рабов, за которыми он признает всю силу человеческих прав. Он восстает против самого имени рабства и хочет, чтобы рабов звали «смиренными друзьями» — humiles amici.
Подобные мысли не были в Риме только убеждением отдельных лиц или учением какой-нибудь философской школы (как у греческих стоиков). Идея существенного равенства всех людей есть неотъемлемая принадлежность римского права. Самое понятие: jus naturale, установленное римскими юристами, совершенно отрицает всякую коренную и непреложную неравномерность между людьми и народами. Вопреки Аристотелю, утверждавшему в своей политике, что есть племена и люди, самою природою предназначенные к рабству, римские юристы решительно заявляли, что все родятся с одинаковым естественным правом на свободу и что рабство есть лишь позднейшее злоупотребление.<…> Если внешнее единство Римской империи с ее военными дорогами материально облегчило и ускорило всесветное распространение евангельской проповеди, как это замечали еще древние христианские писатели*, то гуманитарные начала римских юристов и римских философов подготовили умственную почву для восприятия самой нравственной идеи христианства, по существу своему общечеловеческой и сверхнародной.
Предание о личном знакомстве апостола Павла с Сенекой, сомнительное фактически, верно указывает на естественное сродство между универсализмом римского разума, завершившим историю язычества, и началом новой универсальной религии, оживившей объединенное в Риме человечество. Сенека, отрицающий войну и рабство, и апостол Павел, провозглашающий, что отныне нет более разделения между эллином и варваром, рабом и свободным, — эти два лица из двух столь далеких «культурно-исторических типов» были, во всяком случае, близки между собою, независимо от личных свиданий и переписок. Случайное знакомство двух исторических лиц есть только любопытный вопрос, но совпадение двух разнородных мысленных течений в одной универсальной идее есть несомненное и огромное событие, которым обозначилось самое средоточие всемирной истории. А если единой всемирной истории нет, если существуют только национальные или племенные культуры, то как понять и объяснить эту духовную связь между языческим философом из Испании и христианским
___________________________
* «Сам Бог, — говорит Пруденций, — покорил все народы римлянам, чтобы уготовать пути Христу».
апостолом из Иудеи, которые сошлись в Риме, чтобы проповедовать всечеловеческое единство?
Как ни далека еще наша действительность от исполнения нравственных требований апостола Павла или хотя бы Сенеки, но проповедь всечеловеческого единения не пропала даром. Из нее вышел новый культурный мир, который при всех своих практических грехах, при всех своих частных разделениях и междоусобиях все-таки представляет великое идеальное единство племен и народов, настолько превосходящее, и объемом и глубиною, единство Римской империи, насколько сама эта империя превосходила все бывшие до нее попытки всемирного владычества.<...>
Народы новой христианской Европы, восприняв зараз из Рима и из Галилеи истину единого по природе и по нравственному назначению человечества, никогда не отрекались в принципе от этой истины. Она осталась неприкосновенною даже для крайностей возродившегося в нынешнем веке национализма. Сам Фихте ставил немецкий народ на исключительную высоту только потому, что видел в этом народе сосредоточенный разум всего человечества, единого и нераздельного. Только русскому отражению европейского национализма принадлежит сомнительная заслуга — решительно отказаться от лучших заветов истории и от высших требований христианской религии и вернуться к грубо языческому, не только дохристианскому, но даже доримскому воззрению.
Принимаясь за свой труд под влиянием искреннего, хотя слишком узкого и неразумного патриотизма, покойный Данилевский имел в виду практическую цель: поднять национальную самоуверенность в русском обществе и исцелить его от болезни «европейничанья». <...> Но, при очевидной невозможности прямым образом доказать великую культурную самобытность России и ее коренную и окончательную отдельность от Европы, наш автор вынужден был избрать для своей цели окольный путь общих теоретических соображений. <…> Отрицание единого человечества в «естественной системе» нашего автора получает свое необходимое логическое дополнение в этом «законе», отрицающем единство развития в человечестве, т. е. всемирную историю. Для оправдания этого мнимого закона Данилевский или обходит молчанием, или голословно отрицает все исторические примеры действительной передачи образовательных начал от одного культурного типа к другому. Между тем история полна этими примерами.
<…> Основное образовательное начало романо-германских народов выработано не ими самими, а принято от одного из прежних культурно-исторических типов; точно так же основное образовательное и просветительное начало русско-славянского исторического типа выработано не им самим, а принято целиком и без всякого изменения от византийских греков, принадлежащих к иному культурному типу. <...>Наш автор не хочет допустить, что исключительная национальность есть ограниченность и что прогресс истории состоит в разрыве этой ограниченности. Нам нет надобности отвечать ему какими-нибудь рассуждениями; достаточно лишь вспомнить самые великие и важные явления в истории человечества: все они были ознаменованы именно этим разрывом национальной ограниченности, переходом от народного к всечеловеческому <…>
Как Индия с враждою отвергла свое высшее порождение — буддизм, сделавшийся зато «светом Азии», так и высшее всемирно-историческое порождение еврейской народности — христианство — оказалось в жестоком противоречии с иудейским национализмом, но тем легче оно исполнило свою универсальную задачу — оплодотворить религиозною истиной Израиля всю языческую Европу и основать в ней новый мир общечеловеческой культуры.<...> Признавая протестантство отрицанием религии вообще, а католичество – «продуктом лжи, гордости и невежества» Данилевский, по следам прежних славянофилов, отождествляет христианство исключительно с греко-российским исповеданием, которое и является, таким образом, единственно адекватным выражением абсолютной истины. <..,> А вместе с тем это же исповедание признается специально просветительным началом одного русско-славянского культурно-исторического типа и в этом качестве не допускается передача его другим типам. Но с этим падает все воззрение Данилевского. Ибо тогда вместо десяти или двенадцати более или менее однородных и равноправных культурных типов человечество должно делиться только на две безусловно несоизмеримые половины: с одной стороны, православный славянский мир, обладающий исключительным преимуществом абсолютной истины, а с другой стороны — все прочие племена и народы, осужденные пребывать в разных формах лжи. <....> Вообще же отдавать безусловное предпочтение (в смысле высшего предела человеческих обязанностей) культурному типу, как группе более конкретной и определенной сравнительно с человечеством как с понятием слишком отвлеченным и неясным, значит открывать свободную дорогу всякому дальнейшему понижению нравственных требований. Ибо совершенно несомненно, что интересы национальные (в тесном смысле) гораздо конкретнее, определеннее и яснее интересов целого культурно-исторического типа, который для большинства смертных, пожалуй, представляется еще туманнее, чем для Данилевского человечество; точно так же несомненно, что интересы какого-нибудь сословия или партии всегда определеннее и конкретнее, нежели интересы общенациональные или общегосударственные, и, наконец, уже вовсе никакому сомнению не подлежит, что для всякого его личные эгоистические интересы суть из всех прочих самые ясные, самые определенные и конкретные.
<…> Я разумею взгляд, по которому человечество относится к племенам и народам, его составляющим, не как род к видам, а как целое к частям, как реальный и живой организм к своим органам или членам, жизнь которых существенно и необходимо определяется жизнью всего тела. Понятие тела не есть пустое отвлечение от представлений о его членах, и точно так же тело не может мыслиться и как простая совокупность или агрегат своих членов; следовательно, отношение родового к видовому неприменимо здесь ни в одном из двух значений, различаемых нашим автором.
А между тем идея человечества как живого целого (а не как отвлеченного понятия и не как агрегата) настолько вошла, еще с первых времен христианства, в духовные инстинкты мыслящих людей,
<…> Придется, напротив, принять совершенно иное заключение: если всякая частная группа, национальная или племенная, есть лишь орган (орудие) человечества, то наши обязанности к народу или племени, т. е. к орудию, существенно обусловлены высшими обязанностями по отношению к тому, для чего это орудие должно служить. Мы обязаны подчиняться народу лишь под тем условием, чтобы он сам подчинялся высшим интересам целого человечества. <…> Если бы национализм, возведенный в систему нашим автором, противоречил только основной христианской и гуманитарной идее (единого человечества), то это опровергало бы его лишь в глазах людей с искренними христианскими убеждениями или же особенно чутких к высшим нравственным требованиям. Но теория «России и Европы» несовместима не только с христианскою идеей, но и с самим историческим фактом христианства как религии универсальной, всемирно-исторической, которую никак нельзя приспособить к какому-нибудь особому
<...>Кроме христианства, в непримиримом противоречии с воззрениями «России и Европы» находится, как мы видели, и историческое явление двух других универсальных, точнее, международных или сверхнародных религий — буддизма и мусульманства, а также и еврейской религии, которая, несмотря на свой национальный характер, передала, однако, свои существенные начала чужим мирам христианства и ислама.<...>
<...> Ни один европеец и ни один русский западник никогда не сомневался в том, что каждый народ занимается наукою (как и всем прочим) по-своему, на свой лад. Но это свое в ученых трудах немцев, англичан, французов и т. д. нисколько не мешает им заниматься одним общим научным делом, в котором все они вполне солидарны между собою и которое принадлежит не какому-нибудь культурно-историческому типу, а всему человечеству. <...> Все, что можно найти научного у древних народов, вошло в науку европейцев, было ими полнее и глубже разработано и, следовательно, имеет значение лишь как низшая подготовительная ступень в развитии этой одной европейской науки. Помимо нее, никакой другой особой науки в действительности никогда не было. Но, может быть, еще будет? Наш автор, настаивающий на национальном характере науки и совершенно забывший при этом о своих «культурно-исторических типах», не придает никакого ясного и определенного смысла своим надеждам на «самобытную славянскую науку».<…>Если же под «самобытною славянскою наукой» (согласно основному воззрению «России и Европы») разуметь особый, небывалый доселе тип науки, существенно отличный от европейского, то в скромных трудах русских ученых, старающихся по мере сил внести свой вклад в общее умственное достояние Европы, мы, конечно, не найдем никаких начатков такого вполне самобытного научного творчества. Этих начатков будущей славянской науки следует искать только у тех из наших ученых писателей, которые, не удовлетворяясь европейскою наукой, стремятся к новым, лучшим началам знания.<...>
ХХХ
В начале своей «России и Европы» Данилевский поставил вопрос: почему Европа так не любит Россию? — Ответ его известен: — Европа, думает он, боится нас как нового и высшего культурно-исторического типа, призванного сменить дряхлеющий мир романо-германской цивилизации. Между тем и самое содержание книги Данилевского, и последующие признания его и его единомышленника наводят, кажется, на другой ответ: Европа с враждою и опасением смотрит на нас потому, что, при темной и загадочной стихийной мощи русского народа, при скудости и несостоятельности наших духовных и культурных сил, притязания наши и явны, и определенны, и велики. В Европе громче всего раздаются крики нашего «национализма», который хочет разрушить Турцию, разрушить Австрию, разгромить Германию, забрать Царьград, при случае, пожалуй, и Индию. А когда спрашивают нас, чем же мы — взамен забранного и разрушенного — одарим человечество, какие духовные и культурные начала внесем во всемирную историю, — то приходится или молчать, или говорить бессмысленные фразы. <...>Но если справедливо горькое признание Данилевского, что Россия «начинает оказываться больным, расслабленным колоссом», то вместо вопроса: почему Европа нас не любит — следовало бы заняться другим, более близким и важным вопросом: чем и почему мы больны? Физически Россия еще довольно крепка, как это обнаружилось в ту же последнюю Восточную войну. Значит, недуг наш нравственный: над нами тяготеют, по выражению одного старого писателя, «грехи народные и несознанные». Вот что прежде всего требуется привести в ясное сознание. Пока мы нравственно связаны и парализованы, всякие наши собственные стихийные силы могут быть нам только во вред. Самый существенный, даже единственно существенный вопрос для истинного, зрячего патриотизма есть вопрос не о силе и призвании, а о «грехах России».
