29.05.2022
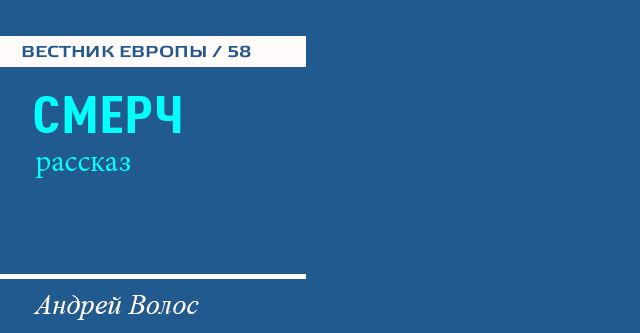
Наталье Сергеевне Шик
1.
В Курган-Тюбе они частенько бывали с рыбой: директор совхоза «Кировский» по старой дружбе закидывал то пару-другую вахшских маринок, то даже и сазанов.
Подчас Гатченко́в и сам у них оставался. Приедет утром из своего хозяйства на хлопзавод, весь день крутится: и с тем надо поговорить, и того поймать. Если кого-нибудь не застал и чего-то не порешал, значит назавтра опять сюда – потому что ничего кроме срочного в жизни не бывает. И какой тогда смысл возвращаться?
– Иван Константинович! Пустишь старого товарища на грязных мешках вздремнуть?
– Как не пустить, Василий Никифорович! От тебя разве отобьешься.
– Ха-ха-ха!
– Ха-ха-ха!..
За душевными разговорами старые друзья засиживались за полночь. И по доносившимся из-за хлипкой двери кухоньки голосам Таня всякий раз с тревогой заключала, что Василий Никифорович Ваню насчет чего-то уговаривает.
А тот отнекивается – когда со смехом, а когда и без. То таким манером уйдет от серьезного разговора, то этаким. То в одну сторону вильнет, то в другую.
И уж всякому должно быть ясно: дело пустое.
Но Василий Никифорович простой вещи не понимает, не отстает и даже наоборот – сетует.
Эх, говорит, Иван Константинович, друг ты мой сердечный! Вот и видно, что жизни ты еще не знаешь, иначе разве стал бы отказываться. Затея проще пареной репы: под ногами сокровище, только наклонись. У меня невестушка, у тебя женишок. У меня скот, у тебя жмых. У меня совхоз, а ты теперь на хлопзаводе почитай что главный. Что нам стоит дело наладить? Я тебе мясо, ты мне корм. Золотое дно. Ты не бродяга какой, Иван. Посмотри на себя: солидный мужик. У тебя дети мал мала меньше, да и жене пособить не грех.
А Ваня все отшучивается. Смеется: ты дурному меня, Василий Никифорович, не учи, на кривую дорожку не сбивай. Всех денег не заработаешь, спокойный сон дороже. Говоришь, мы тут из черепушек хлебаем – так с золота отродясь не едали, вот и свыклись. На хлеб хватает, одеты-обуты, а шелков Таня и смолоду не нашивала. И это у тебя в «Кировском», как карточки отменили, ни за какие деньги тряпки не найти. А у нас всего полно, и уж чего-чего, а мануфактуры на платье я всегда принесу: карбоса, сиречь ревендука, коим хлопковые кипы оборачивают. Закажет отрез – будет отрез, а захочет два – так и два добуду. Что смеешься, Василий Никифорович? Ты не смейся, раньше так жили и впредь проживем.
И вот слушает Таня под дверью, как мужики о жизни рассуждают, а у самой сердце обрывается: Ваня, конечно, твердый, тут сомнения нет... но что если все же уговорит его Василий Никифорович?.. ну как Ваня согласится! Он ведь потом не отступит!.. он честный твердый – но это полбеды, хуже, что Ваня и жуликом твердым останется... и что же это за жулик-то будет, господи, подумать страшно!..
Вот о чем они толковали.
Когда Гатченков в последний раз у них ночевал, уже к посевной готовились. Она это хорошо запомнила. В завкоме заполняли грамоты к Международному дню работниц, несколько штук нужно было в «Кировский» доставить, и думали, как ловчее сделать. Тут Василий Никифорович сам будто по заказу и приехал, удачно получилось.
А в начале апреля Ваню арестовали.
* * *
Перед тем его дома не было, мотался по районам. А на хлопзаводе как раз в те дни дело стряслось из ряда вон выходящее – пожар на территории.
Как всегда в таких случаях бывает, ничто заранее трагедии не предвещало, все шло в строгом порядке под неукоснительным надзором. Полыхнуло, где меньше всего ждали. Где, наоборот, пристальней всего в противопожарном разрезе и все мысли о соответствующих мероприятиях. Где глаз да глаз и все настороже, чтобы в случае чего беззаветной грудью наперекор пламени.
Короче говоря, занялись в маслобойном цеху груды жмыха: ни накануне не убрали, ни, как на грех, даже позавчера.
Причина разгильдяйства, повлекшего столь плачевные последствия, была вполне себе производственная: обе тачки возить отход на паковку вышли из строя (запасная и вовсе давно валялась без колеса за прессом под пыльными рогожами). Слесарь Шутуров возился с калечным инвентарем, починял. Ждали, когда приведет технику в порядок, чтобы на себе не таскать, вот и дождались. В жизни ведь все так – начнется с пустяка и бог знает чем кончится.
Хорошо еще, в межсезонье случилось. Потому что если б такое дело осенью, когда готовые кипы во дворе, полон хирман сырца и внутри все забито ватой – тогда и подумать страшно.
Конечно, и теперь полыхнуло не на шутку. Но все-таки кое-как смирили стихию, справились, пожарный прудик до тины вычерпали, чтоб последнее тление истребить.
И уже Головачев, руководивший тушением и до того изъяснявшийся исключительно запальчиво и невнятно, высказался, утирая потный в черных потеках лоб (сажи летало – будь здоров), в том смысле, что беда большая, сказать нечего, но все же главное они отстояли. И что за пару дней надо кровь из носу возобновить работу. А по ходу дела разбираться: часть удастся восстановить, а что вовсе погорело да полопалось, придется заново построить. Бояться не нужно, все сделаем, выйдет лучше прежнего!..
И как раз в этот момент повалилась крыша пристройки. Там и огня-то как такового не было, две опоры чуть обгорели... она и без того, значит, на тех опорах едва держалась.
Что там в тот момент было делать инженеру Курдюкову, вообще непонятно. Думали, каюк ему – нет, обошлось. Но помяло капитально, отвезли в больницу.
И она сразу подумала: господи, как хорошо, что Вани нет!
Окажись он при этом безобразии, в стороне бы не остался. Курдюков в пекло лезет, и мне пора. Причину ведь всегда можно приискать. На крайний случай сгодится, что он лицо ответственное. Косточка на маслобой идет исключительно по ведению агронома: его дело отделить семенной запас, остальное можно чохом на масло. В горячке разве станет думать, что у него трое детей. А вы уж потом разбирайтесь, люди добрые, что там кому на башку упало...
А вдобавок еще и Котик расквасился. Утром Таня оставила его с бабушкой Полей. К вечеру малыша совсем разобрало, ночь горел, утром осы́пало. Софья Александровна с врачебным хладнокровием диагностировала: скарлатина. И велела Тане не мешкая собрать детей: заберет к себе.
Таня попыталась возразить – мол, к чему это, она сейчас старших на кухню переселит, и очень даже хорошо получится, совершенная изоляция.
Но та даже голоса не повысила.
В общем, десяти минут не прошло, как они ушли. Завернутого в одеяльце Мишу Софья Александровна несла (он как раз начинал просыпаться, и она что-то ему успокоительно ворковала), а Вета деловито семенила рядом. В левой руке у нее была торба с Мишиными бутылочками, в правой – наскоро собранная авоська с бельишком.
Таня, перехватив ладонью ворот платья, немо следила с крыльца. Пока не свернули за угол, Вета то и дело растерянно на нее оглядывалась, и тогда спотыкалась.
* * *
Если бы не знобящее беспокойство, уход за ребенком ничем бы не отличался от иных занятий, требующих внимания и тщательности. За делами страх и беспомощность отступали. Но неприятные мысли скользили, замыкаясь в тусклое кольцо одних и тех же соображений.
Снова и снова она думала, что совершенно ни к чему им жить именно здесь – где и корь, и скарлатина, и дифтерит, и еще тысяча и одна болячка.
Это совсем, совсем не обязательно... люди гнездятся вольно.
Им тоже ничто не мешает обосноваться в более подходящем климате.
Например, Макарские приехали из Ленинграда – живут, значит, люди и в Ленинграде.
Да что далеко ходить – она сама явилась из Краснодара... а до того и вовсе родилась в Анапе.
В череде мысленных картин Анапа представала детским царством голубого простора.
Тут-то никто и вообразить не может, что такое море... тут и слова такого толком не знают.
Вот и сидела бы там, идиотка...
Так нет же, ей на курсы в Краснодар понадобилось!..
Да ведь если бы только курсы!.. Курсы вообще-то дело хорошее, ремингтонисткой стать всякой хочется.
Но вот уж потом ехать к нему сюда на край света за тридевять земель незамужней девушкой – что может быть безрассудней?
Так она думала в те первые часы, когда Котик горел, и пылал, и плыл в жару, и хныкал, едва разлепляя веки.
Назавтра стало легче.
* * *
Пока жизнь бежала по накатанному, казалось, так и должно быть. Дети не болели, денег хватало на самое необходимое, Ваня не пропадал, не сказавшись, на кишлачных полях... Месяц, даже два такая благодать могла продолжаться.
Дом, муж, семья... дети вечно голодные... самим что-то надо есть... чтобы приготовить, нужно обзавестись продуктами. Помнить, что мука кончается. А масло уже кончилось. Гатченков рыбу опять завез, раньше перепадали сазаны, теперь одна маринка, с ней навозишься...
Или вот еще поразмыслить, как бы Ване обзавестись наконец костюмом: брюками с пиджаком. Ему-то, правда, и так хорошо: как есть, так и ладно, он бы весь век вахлак-вахлаком – холщовые штанины в сапоги, длинная белая рубаха ремешком перетянута, панама на лысине.
Но это прежде у него все поля да лошаденки, а теперь не так, теперь он на хлопзаводе не последний человек, у начальства на глазах. Ботинки нужны на шнуровке, и чтоб пиджак одной материи со штанами, и галстук, как у других инженеров. А у Курдюкова даже с металлической заколкой.
Ну и тэдэ.
В периоды ровного времени ей казалось, что все на свете живут примерно так же, примерно одинаково, куда ни глянь, хоть в Краснодар, хоть бы даже и в сторону Анапы или Ленинграда.
Но скоро опять начинало трясти. Например, как сейчас, заболевал кто-нибудь из детей.
И опять она вздрагивала: будто сдергивала розовые очки, чтобы заново увидеть все как есть.
И все опасности окружающего вставали перед ней.
Символом всех ужасов было одно навязчивое воспоминание. Наяву Таня гнала его от себя, поэтому время от времени оно являлось во сне. Ваня расталкивал, если она начинала по-собачьи скулить и дергаться.
От последних кибиток Сарай-Камара тропа ныряла в гущу тугаёв, к берегу Вахша. Невидимый отсюда, он угадывался по призрачному гулу земли, порождаемому мощной рекой.
На утоптанной супеси тропы виднелись темные пятна: капли сукровицы.
Сама шкура, распластанная в лучах утреннего солнца, жарко горела чередованием черных и рыжих полос.
Казалось, шкура приняла тропу в свои объятия, братски раскинув лапы и приникнув к ней подбородком круглой головы: оранжево-черной, белобровой, с пучками белых усов в обе стороны.
Мерген победительно опирался о дедовский мультук. Его правая ступня почти касалась страшных усов.
Таня не знала, освободил ли Мерген шкуру от черепа, свежуя, или слепые глаза чудовища еще сидят в глазницах.
Редкозубо посмеиваясь, старик смущенно запахивал светившиеся ватой полы халата-чапана, тут и там замаранного кровью.
Его бритый затылок покрывала тюбетейка с накрученной вокруг тощей чалмой. Конфузливо кивая седой бороденкой, он принимал поздравления сельчан. Подходя, каждый прижимал ладони к груди, кланялся ему, славному охотнику, перемежая праздничные слова с проклятиями в адрес мертвого хищника.
Краткие речи неминуемо заканчивались соболезнованиями: все горестно морщились и кивали.
Мерген тоже скорбно морщился и разводил руками. Что теперь делать, такую беду не поправишь, – словно устав произносить одни и те же слова, говорил он этим жестом.
Несколько дней назад младший брат Мергена кинулся по следам похитителя своей коровенки. Вопреки кой-какому своему охотницкому опыту, брат взялся за дело нерасчетливо и наспех – и сам сгинул в тугаях.
Вообще-то он мог бы и поостеречься, ведь коровы в Сарай-Камаре ни с того ни сего не пропадали. Не бросаться очертя голову, а устроить, как и положено в таких случаях, регулярную охоту. И если повезет, завалить шалого пришлеца.
Именно так поступил Мерген.
Козленок, ночным плачем выманивший жертву под пулю, продолжал жалобно блеять. Возможно, он подозревал, что, несмотря на его самоотверженность и совместные с Мергеном завоевания, ему все равно предстоит быть съеденным, пусть и не тигром.
Даже если охота и не пришла бы к столь блестящему завершению, зверю пришлось бы понять, кто в пойме настоящий хозяин. Вместо того чтобы лезть к людям, он ушел бы в низовья – гонять там несметные стада тамошних кабанов с риском однажды напороться на клыки освирепелого секача.
Горе, горе! – брат Мергена так распалился несчастьем пропажи, что забыл осторожность, утратил столь нужную охотнику расчетливость.
Сделав дело мести и вернув себе право прямо смотреть в глаза односельчанам, Мерген горестно кивал. Одной рукой он опирался о мультук, другую ответно прижимал к сердцу.
А непроходимые заросли паводкового русла за его спиной (и все еще привязанным к ветке козленком, чья белая шерстка сейчас, по контрасту с окружающим, выглядела очень по-домашнему) по-прежнему полнились бурлением жизни: жизнь сходилась, сбегалась, слеталась, сползалась к реке, ныряла в мутную, полную праздничных золотинок воду, шумно билась в чаще камышей, зрела и пучилась, жадно впитывая солнечный свет, размножалась, то и дело лопаясь под напором новых почек и новых поколений, – словно стремясь своим кипением искупить безмолвную мертвенность лежавшей далее земли, тем же солнцем давно и упорно превращаемую в пустыню.
Сколько бы ни было жизни вокруг, по человеческим меркам эта округа все равно была безнадежной и неминуемо гиблой: человек здесь либо иссыхал на пекле ужасного солнца, либо, если смел двинуться к берегу, сталкивался с не менее гибельными ужасами. Сколько бы ни встречалось ему чуждой жизни, его собственная была решена: ее срок определялся лишь длительностью мучений. Нельзя было угадать, укус какого из мириад комаров наградит несчастного малярией; застилая красный закат, тучи москита папатачи несли пендинскую язву; ришта, она же гвинейский червь, продолжала бесконечный перечень телесных скорбей...
* * *
Котику полегчало, но Таня еще не вышла из не всегда осмысленного состояния озабоченной матери, похожего на судорожное напряжение мышцы, совершающей то действие, ради которого эта мышца, собственно, и существует.
Она не до конца успокоилась, не окончательно убедилась, что болезнь Котика не так страшна, как показалось сначала. События окружающего оставались всего лишь мельтешением малозначительных обстоятельств: просто тенями, трепетание которых практически не сказывается на действительно важном.
Так что она даже не сразу поняла, о чем Вера.
Вера забежала под вечер. Белая косынка в синий горох не закрывала пробора русых волос. Ее простодушное, с носом-пипкой круглое лицо имело именно то приветливое и радостное выражение, с каким давняя подруга должна слушать рассказ о разрешении детской болезни.
Но едва успела Таня начать, как выражение Вериного лица переменилось и она ее перебила.
– Что? – не поняла Таня. – Окстись! Он в районах! Как бы он мог?!
– Да как! – воскликнула Вера. – Вот не слушаешь, а говорю же: приехал! С дороги на завод! В обед! Сама же я видела!
– Да не может такого быть!..
Случается, порыв ветра мигом обращает в прах целую вселенную гипнотически непреложных отражений: и облака, и верхушки дальних холмов, и весь тот берег с его склоненными над отмелью деревьями и проведенной по косогору желтой кривулиной тропинки, – все вдруг вскипает серебряной рябью и теряет очертания.
Не чувствуя под собой ног, Таня опустилась на табуретку.
– Да неужели же они и правда!..
Продолжать – то есть говорить что-нибудь насчет того, что этого-то она всегда и боялась, не зря, выходит, болело у нее сердце, когда ночевал у них Гатченков, – продолжать это было ни к чему.
– Да вот тебе и неужели! – подхватила Вера, поняв ее слова иначе. – Разве они другое могут? Своими глазами видела! Двое подошли, один чуть стороной. Твой-то еще вроде как удивлялся – мол, что такое, дескать, причем я... Да им разве докажешь? И за проходную его! Он Семёну слово сказать хотел, может передать что, может тебе и передать, голову так-то вот повернул, оборотился вроде... да эти страхоидолы разве дадут? Иди без разговоров! А там у них коляска стояла...
– Коляска? Они же обычно на машине...
– Не знаю… нет, не на машине, коляска двуконная. В коляску сели. Двое с ним уехали, а сержант вернулся, к Головачеву пошел. Я уж грешным делом думала и Головачева возьмут...
Таня не успела задаться вопросом, с какой стати должны были взять и Головачева. Головачев-то причем?.. или Головачев тоже с Гатченковым что-то кроил?.. тоже в доле был?
– Нет, Головачева не взяли, – сказала Вера. И вдруг всплеснула руками: – Что теперь делать-то, господи!..
Это уже было слишком.
Ей и раньше хотелось крикнуть. И не просто крикнуть, а так крикнуть, чтобы прямо завопить. Но она сдерживалась, не давала себе воли. Потому что кроме отчаяния чувствовала еще и раскаяние.
Вообще-то прежде его не было, но сразу, как все это на нее обрушилось, ей пришло в голову поискать – и она тут же разыскала в себе это утлое раскаяние, и ухватилась за него, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, не закричать. Это же просто глупость какая-то, кричать от раскаяния.
На самом деле ей совершенно не в чем было перед мужем каяться. Но она поворошила и тут же нашла – ну хоть какое, хоть это жалкое, нелепое раскаянишко, лишь бы помогло стерпеть, не кинуться в слезы.
Даже, может быть, в это самое мгновение она себе его для того и придумала.
Мол, вот какая нехорошая была она все эти дни, как Ваня уехал: воображала на его счет всякие глупости.
Зачем она это делала? Разве похвально это было с ее стороны? Разве он давал повод?..
Да если бы знать тогда, как повернется дело, разве стала бы она его в чем-нибудь подозревать?
Как он может ей изменить? Во-первых, он вообще не по этому делу, а во-вторых, когда бы ему удалось выкроить время? У него работа, у него дел невпроворот, у него посевная, каждый час на счету, вот и сейчас – он же не развлекаться уехал... Очень нужны ему эти районы, век бы их не видать, а то прежде не насмотрелся. Но дело есть дело, а он такой, он спать не будет, если всего своими глазами не увидит, если сам не проверит, как идет сев, не убедится, что все в порядке, не пропесочит колхозных бригадиров и раисов[1], им что посевная, что уборочная, у них всех забот – личное пузо пловом набить!
А она о нем такие гадости думать. Господи, да как ей не совестно-то было!..
Хотя, конечно, эти районы... знает она эти районы... Те еще райончики, одно название что колхозы. Не колхозы, а председательские вотчины, раис там царь и бог, у каждого небось целый гарем. А тут сам мираби калон[2] в колхоз наезжает. Разве по такому случаю раис не расстарается, не порадеет? Да любой в лепешку расшибется: от себя оторвет, свою собственную подложит, лишь бы хлопзаводский агроном доволен был!
Последние мысли были совершенно нелепы, никогда прежде ничего такого даже отдаленно не являлось, даже в дурном сне. Но они все же зародились, а раскаяние, за которое она только что с такой радостью схватилась, чтобы не дать слабины и не разрыдаться, стало стремительно истаивать. А Верино бабье причитанье что-то окончательно в ней сорвало. И она сама вдруг отчаянно завопила, тряся сжатыми кулаками перед лицом:
– Да не ори!.. не ори ты!
Вера испуганно отшатнулась.
– Что ты, Танечка!..
– Прости, бога ради, – сказала Таня, приходя в себя. – Прости... Что делать!.. Господи, да откуда же я знаю, что делать!..
И вдруг ахнула, схватилась за виски, и ее лицо, и без того уже некрасивое, перекошенное гримасой обиды и непонимания, пуще исказилось, будто ее пронзила какая-то добавочная, совсем неожиданная и дикая мысль.
– Что такое? – спросила Вера, робко протягивая руку к плечу и соболезнующе морщась. – Что ты, Танюша?
– Господи! – сказала она, вытирая слезы. – Как же я передачу-то ему понесу, если мы до сих пор не расписаны!
2.
Последние месяцы в Краснодаре ей думалось лишь об одном: вот-вот придет главное письмо. Может быть завтра придет... может быть даже сегодня... вечером забежит на почту – а конверт уже там. Тогда она тут же соберется, преодолеет предстоящую (и никак еще не представимую) дальнюю дорогу... и они наконец, наконец-то увидятся.
Но когда же это случится, когда? Когда уже она хотя бы на самом деле поедет!..
Письма приходили, приходили часто, но главного не звучало. Все какие-то задержки, какие-то оттяжки. То одно, то другое. Ну же, ну!..
Так ждала этого, так изнывала – а когда этот день наступил и она и в самом деле поехала, в ней все окаменело. Живое естество застыло на время перемещения, будто закуклилось, чтобы не повредить нежных крылышек, омертвело на три с лишним недели. Она не чувствовала ни радости, что едет, ни тревоги из-за того, что уехала. А сердце замерло, спряталось, сделало вид, что его и не было никогда, – оставив себе в замену лишь напряженное, острое внимание.
Прежде она не могла похвастаться вниманием, не зря мама в шутку бранила ее, что она такая раззява.
Но теперь оно откуда ни возьмись обнаружилось. И вело за собой, и напоминало то об одном, то о другом, и нашептывало, и подталкивало – будто локтем в бок, и подсказывало, как правильно выбрать между тем и этим.
А выбирать приходилось беспрестанно.
Вот, например, маршрут. На каждой узловой несколько развилок, а с ними и всякого рода непроясненности. Можно двинуться так – а можно и этак. По слухам, так короче, однако на тех перегонах по слухам нелады с тягой... А этак выйдет вкругаля... да ведь не надо думать, что короткая дорога самая быстрая. И если решишь так, то невесть сколько придется потом сидеть на пересадке, все локти искусаешь; а если этак, то и вовсе затянет на лишние двое суток. И ведь заранее никто не знает, как в итоге получится, а если б знал, жил бы в Сочи, а не валандался здесь с Ташкентской на Ашхабадскую...
Собственно говоря, обыденная жизнь взрослого и состоит в решении такого рода мелких задач. Но он давно к ним привык, щелкает с лету, не задумываясь, даже удивится, если схватить за руку, указав, какой важный выбор он не глядя сделал.
А Таня на многие натыкалась впервые и решала когда из общих соображений о добре и зле, когда и вовсе руководствуясь инстинктом. Бросили котенком на глубокое место, вот она и барахталась, изобретая на ходу и с чистого листа.
Как, например, вести себя во время ожиданий на станциях: с кем дружить, а кого опасаться, у кого в случае чего искать защиты, а кого и тогда обходить стороной. И чем грозят краткие вылазки на площади вокзалов, вокруг которых пылятся под незнакомым небом чужие города. И сколько из считанных-пересчитанных деньжонок можно потратить сегодня на заплеванном базарчике у водокачки. И не обжулят ли там, подсунув тухлятину. А если обжулят, что делать одиночке – добиваться на чужбине справедливости, надеясь на чью-то совесть, или стерпеть, ни на чью совесть не надеясь. И если так хочется съесть кусочек требухи, но при этом могут обжулить, то не купить ли просто вареной картошки. А еще лучше начистить самой, нарезать помельче и запарить в жестяной кружке...
Как всякому, ей трудно было взглянуть на себя со стороны. Внешне она производила впечатление более или менее взрослой, и было обидно, когда кто-нибудь ставил под сомнение возраст (что случалось неоднократно). Однако в ней не только не было того, что делает человека по-настоящему взрослым, но даже и наивной маскировки: ни нахальства вкупе с заведомой и пустой уверенностью в себе, ни даже напускной боевитости, какую, как минимум, должны проявлять ни в чем не смыслящие девчонки, что пускаются в приключения, не перекрестив на дорожку лба.
А все оттого, что она жила дома с мамой и бабушкой: как бы ни дыбилось окружающее, как бы ни менялось оно и как ни перестраивалась, бабушка и мама, сами плохо понимая, что происходит, стремились оградить ее от превратностей жизни. Благодаря их заботам и усилиям, Таня выросла домашним ребенком, хотя осознавать себя начала уже в эпоху кипения (при начале революции ей было семь).
Незадолго до выпуска второй ступени Катя Безбедова по секрету сообщила, что она, Катя, не желает тлеть, как другие: пусть другие, коли охота, и дальше киснут в анапской пыли и безденежье, что же касается самой Кати, то она видит свою судьбу совсем иначе, а потому в ближайшем будущем уедет в Краснодар и поступит на курсы.
Тане тоже не хотелось бы дальше тлеть и киснуть, но мама категорически не отпускала ее в Краснодар на пару с Катей, когда намекая, а когда и прямо указывая на громоздящиеся вокруг ужасы жизни.
Таня билась до последнего и в конце концов сама не поняла, как все-таки удалось ей вырвать мамино согласие. А тем временем Катька познакомилась с краснофлотцем, и ее планы радикально переменились. Вероятно, не за тридевять земель, а прямо здесь, на месте, где все под рукой, отыскались способы освежиться.
Но Таня – после всех разговоров, споров, нервов и страданий – отступить уже не смогла. И все-таки поехала. И ее взяли.
И что?
Она искренне жалела, что дура Катька осталась, вот уж хлебнула бы полной ложкой своих идиотских мечтаний: не киснуть и не страдать безденежьем!.. С утра до ночи долбежка и упражнения, головы не поднять, пальцы ноют, а из лучезарного будущего одни нелепые мечты. В общежитии комната на восьмерых, она со всеми девчонками познакомилась, конечно, но такого, чтоб по душам поговорить или куда-нибудь сходить (всего в двух кварталах, сказывали, клуб «Пролетарий»), такого и в заводе не было.
И когда потом она с Ваней встретилась, никто бы и не подумал, что это судьба. Она, во всяком случае, не подумала, мысли такой не возникло. Он ей вообще не приглянулся, а главное, настолько старше, что аж плешь под шляпой. Она на второй минуте рассмотрела и прямо фыркнула про себя от возмущения: вот какие старикашки к ней пристают! О чем он думает, ему в богадельне пару искать или где там еще такие бывают, ему ведь уж точно к тридцати!.. Так потом и оказалось: на одиннадцать лет – ужас! бездна!..
И она все порывалась уйти, а он и не особенно удерживал, сказал лишь, что утром – она ведь к восьми на работу приходит? – будет у дверей ждать с ответом. А она опять фыркнула, теперь уже в голос, хоть и негромко: вот еще, мол, что за выдумки! Не надо ничего ждать, какой ответ, если ей даже не видно, хоть глаза прогляди, кому бы она могла дать какой-нибудь ответ.
Хотела еще выразиться, как мама учила, что вообще не понимает, что могло бы стать поводом для подобных вопросов.
Но это было бы слишком театрально. Так что она лишь холодно рассмеялась: а впрочем, мол, ей совершенно все равно, как хотите, так и делайте, хоть всю жизнь ответа ждите, – и ушла, независимо помахивая сумочкой. Она как раз накануне, прямо с первого аванса, смогла купить себе приличную сумочку; и правильно сделала.
С этим авансом вообще хорошо получилось, она не ждала, даже удивилась, когда дали. Знала, конечно, что за работу должны платить. Но чтобы прямо вот так, прямо вот в руки живыми деньгами!..
Ей и в целом очень пофартило. В такое машбюро не всякую возьмут. Непрестанная трескотня восьми машинок, грохот как в железном цеху. Слова не сказать, всё криком. Бумаги стопами даже на полу и все срочно, так что спозаранку и дотемна, еще и задерживают, тогда на стульях ночевать.
Правда, под конец она хоть и на стульях бы не возражала, лишь бы притулиться.
Потому что поначалу, когда устраивалась, Рашенберг уговорил Козлову взять Таню к себе на время: на недельку, сказал, возьми, а там что-нибудь придумаем.
Козлова согласилась. Нехотя, конечно, но виду не подала, вроде как она готова войти в положение и вообще вся такая радушная.
Потом-то она тыщу раз Тане глаза колола: мол, с самого начала знала, что неделькой не обойдется. Какая неделька! Рашенберг конечно чекист и многое может, но какой он чекист ни будь, а все же разжиться койкой для машинистки по нынешним временам и ему затруднительно.
Но ей, Козловой, куда было деваться? Она надеялась сделать карьеру. И первым делом достичь должности завмашбюро. С этой высокой ступени открывались волшебные перспективы дальнейшего роста. А без благосклонности Рашенберга об таком и думать не стоило, так мыслимо ли было ему отказать.
А вообще-то Таня ей просто кость в горле: подселяли временно, так когда уже это время кончится. И кому-то это время может и так себе просто время, подумаешь, потикает и пройдет, а у нее этим временем жизнь утекает. Таня от горшка два вершка, ей что, над ней не каплет. А Козловой давно уж пора устраивать личную жизнь на манер социализма, всерьез и надолго, а не так чтоб на пару ночей и без ясной перспективы. Но пока здесь постылая Таня торчит, ей можно только днем и урывками.
Однако Тане все равно идти было некуда, разве что на вокзал, и ей ничего не оставалось, кроме как кивать на Рашенберга. Когда со слезами, а когда и тупо: дескать, я не я и все тут, она не виновата, она не сама пришла, ее Рашенберг послал. Сама она ни тогда не знала, ни теперь не знает, а он обещал, а раз обещал, значит и найдет, нужно только еще пару дней подождать, можно же подождать день-другой, пока устроится.
Под конец Козлова совсем уж начала с глузду съезжать, и в один прекрасный день крикнула в ярости, что Рашенберг ей не указ. Таня просто не в курсе, а Рашенбергу конец: Лангмана арестовали, и Рашенберга скоро арестуют.
И будто в воду глядела. А может и знала что. Она все-таки в машбюро не из последних, правая рука Барманицкой и первая на пост, если место освободится. Барманицкая ей по пьянке не раз намекала. Дескать, гляди бодрей, Козлова, погоди маленько, дай срок, мне самой кое-что обещали. Не люблю я, конечно, попусту языком трепать, но может и так дело повернуться, что скоро меня бросят на область – и тогда уж, Козлова, настанет на твоей улице настоящий праздник.
В общем, через два дня так и вышло: взяли Рашенберга и еще из оперов нескольких. Это было неожиданно, но мало кого особо всполошило. Вражья кругом навалом, все знают. А кого следующим пришлют, для кого по клавишам стучать, чтобы он настуканное подмахивал, – какая разница.
Но Таню точно взволновало, да еще как: она и при Рашенберге у Козловой на птичьих правах, да что там на птичьих – последний воробей себя уверенней чувствует. А что же теперь?
Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: вдобавок ко всему арестовали и Барманицкую!
Это был поворот. Прямо руки у всех опустились. Вот тебе и строила планы Барманицкая. Вот тебе и хвасталась, что в область возьмут – а ее под стражу взяли. Вот и не зря говорят, что человек предполагает, а Бог располагает.
Но Козловой вообще-то было все равно, по какой именно причине место освободилось. Виновата Барманицкая или нет, не ее дело разбираться. Ей бы хоть и век Барманицкой не видать, она с ней подруживала исключительно по нужде, чтобы когда время придет, было кому слово замолвить.
То есть ликовала она теперь на законных основаниях. И тем вечером, ликуя, даже сказала Тане что-то в том духе, что ладно уж, чай не чужие. Кто старое помянет, тому глаз вон. Козловой скоро перебираться в жилье, какое к новому чину больше подходит, так, глядишь, эту комнату она сможет Тане оставить.
Таня сразу и безоговорочно в эту возможность поверила и тоже возликовала. Полночи не спала, все думала, как грядущее событие скажется на ее судьбе. Поскольку же судьба ее к тому времени вообще-то уже практически сложилась (Ваня уехал, нужно было ждать вызывного письма), получение комнаты она рассматривала под углом того, до каких высот это чудо ее вознесет, – но только пусть возносит вместе со сложившейся судьбой, поскольку от сложившейся судьбы она отказываться не хотела.
Однако уже на следующий день их общему ликованию пришел конец: не только вопреки расчетам Козловой, но и поперек логики и здравого смысла (и даже назло возникшим ныне серьезным Таниным ожиданиям) на место завмашбюро назначили Филимонову!
И это был такой удар, что Таня его кое-как пережила, она еще не успела всерьез привыкнуть к новым перспективам по части перемены участи, а бедная Козлова окончательно спятила.
Во всяком случае, Таня только этим могла объяснить, что Козлова, зная, что идти Тане совершенно некуда, безжалостно выставила ее чемодан за дверь.
Этот вечер врезался в память. Наверное, потому, что в нем все сошлось, как сходятся подчас противоположности: именно как вода и камень и лед и пламень. Словно нарочно сошлось, специально, чтобы показать, как близко счастье от несчастья и как трудно отличить одни слезы от других.
Потерянная, она побрела привычной дорогой – на работу, в ОГПУ. Часовой ее не пустил, но разрешил оставить чемодан под его пригляд.
Почта уже закрылась. Чтобы протянуть время, она решила заглянуть хотя бы на телеграф. И там ее узнала почтовая женщина. Таня ей давно примелькалась, наверное, все-таки каждый день заходила насчет письма, а то и дважды.
И хоть отделение было закрыто, но добрая почтовая женщина не поленилась пройти за стенку и поискать, и нашла – и уже сам конверт в ее испачканных чернилами пальцах ударил Таню в самое сердце, как будто она все знала заранее.
И так оно и было: Ваня писал, что наконец устроился и велел ехать, и подробно разъяснял как, и был адрес какого-то Миклушина, у которого она может и должна разжиться деньгами для отъезда.
Она дожила до утра на вокзале у касс, заодно билет взяла до Крымской, все равно ведь нужно было вернуться в Анапу, кое-что собрать и проститься, а потом обратно к этому Миклушину, а уж потом... Ничего из того, что должно случиться потом, она не ведала, а при попытке вообразить ей представлялось только, что ей придется, кажется, каким-то образом обогнуть Каспийское море... куда впадает Волга... в общем, не забыть бы дома изучить географический атлас.
Ни свет ни заря прибежала на работу, занялась увольнением, в бухгалтерии сначала никого не было, потом оказалось, что денег нет, но все же в конце концов ей повезло, и к обеду она получила расчет.
И все это было хорошо, уж так хорошо, что и не сказать! – но она бы и без того, может быть, уволилась и вернулась домой, потому что ни жилья, ни даже сил продолжать начатое движение к светлому будущему у нее к тому времени уже не осталось.
3.
Временами клокотание движения стихало, уступая вынужденности краткого пережидания. По ночным вокзалам, зримо раздвигая пласты одуряющего смрада хлорки и потерянно перекликаясь, бродили неясные звуки: стоны, всхрапывания, сдавленные плачи, а то и тайные смешки и счастливые перешептывания тех, кто, вступая в орду кочевников в надежде скоро выйти из нее без особых потерь и приобретений, думать не думал, что найдет на рельсах собственную судьбу.
Но стоило лишь долететь отголоску гонга или шипению пара, с ритмичным уханием бьющего из ада главного цилиндра, как все вскипало заново, будто и не заводило глаз. Наступал час решительности, час обреченности, час того стяжения неприязни и отчаяния, что темным желваком ломит железо вагонных ступеней. И толчея, и гам, и суматоха – и чемоданы, и коробки, и узлы – и закутанные одеялами корзины – и даже двух коз один псих с собой тащил, и Таня в бессильной злости на него кричала, когда он, не обращая внимания, упрямо затискивал их в тамбур, но это уже где-то, что ли, за Кзыл-Ордой.
В лицах прибавлялось раскосости, в рукавах – длины, меньше становилось картузов и шапок, больше малахаев и тюбетеек, меньше кожанок, больше чапанов. Меньше юбок, больше платьев – длинных цветастых, а то еще темных, синих или бордовых, туркменских в самый пол. Меньше косынок в горошек, больше платков по самые глаза.
Что касается мужской одежды, вообще складывалось неприятное впечатление, будто паровозы (и в этих краях так же шибко работавшие локтями) тащат обреченных пассажиров прямиком в прошлое: столько уже мелькало рваных, в нитку выношенных гимнастерок, шинелей когда без пуговиц, а когда и с обкорнанными, под корень обрезанными, полами.
За окнами то шатался вблизи бурьян, то чуть поодаль прыгали по лысым буграм ажурные мячи перекати-поля. А то еще у самого горизонта шаткой поступью степенно прохаживались смерчи, и было непонятно, они ввинчиваются в эмалевое небо или само поднебесье опасливо тянется зыбкими хоботами к зеркальцам солончаков.
Когда невидяще, а когда и во сне минуя отстающие за мутными стеклами криволинейные пространства, она вместе со всеми ехала дальше.
Соразмерно одежде, паровозная тяга тоже с становилась все изношенней и малосильней. На запасных путях стояли совсем уж музейные экспонаты, за одной из узловых неминуемо предстояло возникнуть дымным локомотивам Стефенсона и Черепановых.
Все менялось – но и все оставалось прежним. В глазах была та же начальная настороженность, какую можно встретить и за сто, и за тысячу верст отсюда, – или та же печальная доверчивость. И та же доброта – или та же неприветливость – или те же вопросы – или та же отчужденность – или то же стремление понять – или заведомое, с поджатыми губами знание. Разное, но и одинаковое сквозило в каждом жесте, в каждой гримасе и каждом слове, словно всё как стояло на месте, так и стоит, никто никуда не уезжал и не собирается.
Дорога разматывалась виток за витком, важно было не запутаться, не потеряться в неохватных просторах земель, языков, чужих желаний и стремлений.
А потеряться – она только потом поняла, насколько это было возможно. И, вспоминая то свое путешествие теперь уже восьмилетней давности, чувствовала такую оторопь, будто, сдернув с глаз повязку, обнаружила, что каким-то чудом вслепую миновала ужасные пропасти.
* * *
Лунный свет заливал бугристую степь.
Тут и там торчали из щетинистой травы сухие будылья, кое-где на пролысинах серебрилась соль, тени прихотливо чернили землю.
Мириады невидимых ночных существ без устали насыщали окрестности переливчатым звоном. Горячий ночной воздух казался густым.
Но все же на воле было немного прохладней. Еще несколько пассажиров перетаптывались в сумраке неподалеку. Один мужик в трусах с изнеможенным кряхтением сел в пыль, предварительно пошаркав под собой ладонью, будто по скамейке.
– Видишь вон будка, – сказала Маша Гукова, заминая о ступеньку окурок, брызнувший искрой, и одновременно нашаривая в кармане новую папиросу. –Разъезд какой-то.
Там в темноте красноармейцы громыхали ведрами. С десяток их ехало в двух последних вагонах вроде товарных, и везде, где можно было разжиться водой, они сновали туда-сюда, чтобы напоить своих лошадей.
Один как раз семенил мимо с тяжелыми ведрами. Из ведер плескало. Из-под громоздких сапог, которыми он то и дело шумно загребал по насыпи, поднималась ажурная в лунном сиянии пыль.
– Надо же, – сочувственно вздохнула Таня. – Совсем маленький какой солдатик.
Гукова сердобольно покачала головой. Таня подумала, что сейчас она скажет что-нибудь в том духе, что таких маленьких вообще нельзя на службу брать.
– Ну да, – сказала вместо того Маша. – Хоть напьются по-человечески.
– Лошади, что ли? – помедлив, уточнила Таня.
– Ну а кто. Люди сами о себе позаботиться могут. Как еще от жары-то не подохли.
Паровоз свистнул. Красноармейцы заторопились. Маленький тоже ускорил ход, спешно переваливаясь; вдруг уронил ведро и в растерянности остановился, скосившись на сторону под тяжестью оставшегося. Другой, нагоняя, что-то сердито ему крикнул. Маленький бросил и второе – оно так же ухнуло, плеснув веером, затем подхватил оба и теперь уж помчался налегке, шумно стуча сапогами и погромыхивая пустым железом.
– Прямо скороход, – усмехнулась Маша. – Этот, как его... Гулливер. Или кто там?.. кот в сапогах.
– Маленький Мук, – сказала Таня. – Нет?
– Не знаю такого... Ладно, полезай.
Бессвязно переговариваясь, пассажиры забирались в тамбур.
– Женщины, – сказал тот, что сидел на земле, а теперь повис на поручнях. – Вы бы проходили.
– Сами проходите, мы вам не мешаем, – заранее повысив голос, ответила Маша. – Проходите, проходите! Попьете там чего-нибудь холодненького.
Тот шутки не оценил. Окончательно залезая, что-то проворчал, посмотрел сердито, но все же протиснулся мимо и, заново шаркая ладонью – теперь по собственному тощему заду, пропал во чреве вагона.
– То-то же, – сказала Маша Гукова.
* * *
Маше Гуковой было уж за тридцать, но о молодости своей она не беспокоилась. Прическа – стриженные русые волосы под завязанной сзади косынкой, губы не крашены, фигура теряется: снизу – в юбке коричневого сукна до краев высоких ботинок, сверху – в мешковатом черном пиджаке мужского кроя, разве что пуговицы на левую сторону. Всех дивных див одно лицо – и то не очень яркое, пожалуй что и не запоминающееся: округлое, подбородок с ямочкой. Глаза хорошие: чуть раскосы, но не по-азиатски, что с припухшими веками, а большие и ясные, хоть и почти всегда с прищуром. Ко всему прочему, Маша много курила, и оттого голос у нее был с хрипотцой.
При первой встрече она, оценивающе на нее глядя, несколько раз назвала Таню «барышней»: «Откуда же вы, барышня, едете?.. Ах, вот как!.. А далеко ли вы, барышня, собрались?» В обращении была неприятная колкость. Таня сразу решила, что она слишком много о себе понимает и вообще нужно держаться от нее подальше.
Но уже к вечеру первого дня ей и подумать было страшно, что они могли бы не познакомиться.
Началось с того, что на какой-то большой стоянке к Тане подкатил какой-то мазурик в желтых ботинках.
То есть Таня и не поняла еще, что это мазурик, и что он подкатил к ней, тоже не поняла, даже на ботинки не обратила внимания. Просто, на ее взгляд, добрый незнакомец помог поднести чемодан и участливо спросил, что она такая бледненькая и не принести ли попить.
Таня отказалась, но все равно было приятно. Смотрел он мягко, по-хорошему. По всему выходило, что человек приличный, и они начали было разговаривать, но не успели и словечком перекинуться, как вдруг появилась ее новая попутчица и с ходу начала давать чертей новому знакомому: назвала вошью самарской и посулила свести к коменданту.
А когда Таня робко попыталась за этого доброго человека вступиться (а тот вдруг пропал, как сквозь землю провалился), грозно сказала: «Брось трепаться, я жуликов за версту чую!», и что-то еще насчет того, что ей тут не на танцах, чтобы сомнительным фертам глазки строить.
Но все-таки «барышней» она Таню больше не величала, спросила как зовут и назвалась сама; в общем, они познакомились.
Дело дорожное, известное: что да как. Гукова была из ткачих, Тане тоже скрывать было нечего, но и рассказывать особенно не о чем. Обрисовав в общих чертах Краснодарский период, она, чтобы не вдаваться совсем уж в детские годы, решила поделиться планами. Ну и сказала, что направляется в Термез, где предполагает сесть на пароход и приехать к Ване.
– Здорово! – удивилась Гукова. – Ну ты даешь! Одна?!
Но тут же поправилась, сказав, что бояться нечего, ничего страшного, одна так одна, она тоже вот одна едет, следует примерно тем же маршрутом, тоже в Термез и дальше пароходом. Правда, она не в первый раз, и ей не до конца, ей только до пристани Айвадж, а не до Нижнего Пянджа, как предстоит Тане. И что с Воропаевым она не встречалась, но фамилию мельком слышала... и вообще-то в Сарай-Камар она заезжала полгода назад, и тогда никакого Воропаева не застала... но она бывает и в Ташкенте, может быть там пересеклись, ведь все молодые специалисты первым делом являются в Средазбюро, а потом уж дальше кто куда.
И что кто бы там что ни говорил, а Таня очень правильно решила и очень хорошо, что поехала. И пусть не волнуется: там, куда она едет, дел невпроворот, просто по горло дел, руки нужны всякие, любой навык найдет себе применение, без работы не останется.
– Нам хлопок-то во как нужен! – говорила Гукова, глядя на нее с родственной ласковостью, примерно как старшая сестра. – Уж мы-то, ткацкие, знаем. Что ты! Я же двадцатипятитысячница!
Таня не знала, что значит «двадцатипятитысячница», но ей хотелось верить Гуковой, когда та повторяла, что Таня молодец. И что там, куда она собралась, и ныне-то дела такие, что голова кругом идет, а то ли еще будет: лет через десять Вахшскую долину вовсе не узнаешь!
Колеса стучали, они ехали, время было, и постепенно Таня усвоила, что на мировом рынке хлопка от века владычествуют англичане, царская Россия веками зависела от поставок хлопка да и СССР сколько лет вынужден был принимать их условия. Но работа шла, и уже год назад показатели хлопковой промышленности в стране вернулись на довоенный уровень. А прошлой осенью сумели взять столько же, сколько Египет и Китай вместе взятые. Понятно, что британцы не могли оставить такое дело незамеченным. Как же! Из их рук монополия уплывает! А чтобы не уплывала, нужно помешать мирному строительству, воспрепятствовать орошению Вахшской долины. На этом все и замешано, ради чистогана торговцы-капиталисты и родной матери не пощадят. Поэтому вооруженные отряды басмачей, выполняя указания своих хозяев, взрывают дамбы и разрушают каналы. Жгут конторы, пункты сбора, МТС[3], нападают на кишлаки, чинят расправу над дехканами. Недавно двух трактористов убили... А за то англичане его принцем величают!
– Кого? – оторопело спросила Таня.
На самом деле ей уже совершенно не было интересно, кого там кто и как величает. Ее уже не волновали и не радовали слова Гуковой насчет того, что она правильно решила. Нет, ей хотелось только во весь голос крикнуть: «Да не может же этого быть! Да как же там такое может быть, если я как раз туда и еду!..»
Она облизнула губы и закрыла рот.
– Ну кого! Ибрагим-бека, кого еще. Главаря их, басмаческого недобитка... Ничего, сколько веревочке ни виться!..
* * *
Еще через полтора суток прибыли в Термез.
Чуть рассветало, не слышалось даже собачьего брёха, какой разносится над любым иным городом, только изредка доносилось откуда-то баранье меканье. Из редеющей мглы выплывали то неясные очертания разрушенного купола, то оплывшая глина иных развалин... снова сараи, кусты... вот опять пустырь.
Что спустились к воде, она поняла не сразу: серо-сизая ширь реки норовила слиться с серо-желтыми полосами выгорелых камышовых прибрежий. Но вдруг то, что казалось клочьями загустевшего с ночи неба, обернулось холмами противоположного берега, и тогда все вокруг переменилось и приняло истинные очертания, словно навели на резкость.
Маша стучала в ставень приземистого домишки конторы.
Скрипнула дверь, и на крыльце появился человек в белых штанах и майке. Он приглаживал полуседую бороду, улыбался и выглядел сконфуженным – словно не ему стучали ни свет ни заря, а сам он кого-то обеспокоил.
– О, рафик Маша! – приветливо сказал он. – Издрасте, товарищ Маша!
– Я смотрю, ты все спишь, Садык, – строго укорила его Гукова. – Проспишь царство небесное!
– Мы теперь одно царство знаем – царство рабочих и крестьян, – вежливо посмеиваясь, возразил Садык, после чего спросил: – На пароход?
Вопрос был задан таким тоном, словно ответ на него был не очевиден. Однако мелкие кивки вопрошавшего наводили на мысль, что в целом он ему все-таки заранее известен.
– Ну а куда ж еще? – шутливо удивилась Маша. – Зачем бы мы к пристани притащилась? Разве повеселее мест нет?
– Эх! – печально сказал Садык. – Не будет пароход. Кайдендаг есть же? Вчера телеграм получал: мель сидит пароход.
Он виновато развел руками, а Маша, сказав несколько бранных слов, хмуро спросила у Тани, будто та могла иметь на этот счет какое-нибудь мнение:
– И что теперь? К Ахмеду, что ли, идти?
4.
Торопливо шагая в сторону хлопзавода, Таня думала, что не зря вспомнила сейчас о Гуковой.
Дни, проведенные когда-то в совместном странствовании, их не то чтобы сдружили (ведь дружба это что-то более или менее каждодневное, а они бывало что и годами не виделись), скорее сроднили...
У старика Ахмеда было что-то вроде гостевого двора. Случайный человек дороги туда не знал. Но, как объяснила Маша, всякий из хлопковой шатии-братии что на пути к опытным полям Вахшской долины, что, наоборот, добираясь в Ташкент, мог тут заночевать.
У них ночевкой не обошлось: жили себе, дожидаясь, когда наконец пароход «Комсомолец», застрявший в необъятных просторах Туркестана, снимется с мели и пришлепает к пристани Термеза.
Чудное место был этот сад, сладко было даже вспоминать о нем – но обе они уже окончательно извелись, когда ранним утром четвертого дня примчался мальчик-узбек в черных трусах до колен (он и провожал их сюда: они шагали между глиняными стенами проулков, а он катил следом тележку с чемоданами) и прокричал, что Садык-ака велел к двенадцати часам быть на месте, пароход долго стоять не будет. И пусть пока собираются, а он скоро вернется с тележкой.
Часа в два они оказались на палубе.
Остаток дня и вечер, а потом и всю ночь «Комсомолец» шлепал плицами по густой воде налитой всклянь Амударьи, и осколки желто-красной луны сверкали на каждой рябинке.
Утром на ветерке было даже зябко, но пристань Айвадж выплыла к ним, полурастворенная в умопомрачительном мареве четырехчасовой жары.
Гукову встречал человек во френче, с револьверной кобурой на боку. Он помог Маше спуститься по сходням. Уже садясь в бричку, она обернулась и ободряюще подняла руку.
И теперь, шагая по прибитой пыли между влажных от ночного дождя дувалов, Таня все это мельком вспоминала.
И думала, как глупо все получилось.
Вот она ехала... и приехала... и вот они тут жили... жили и жили... одних детей вон сколько, и какие хорошие.
Вот и жили бы себе дальше. Хоть времена и неспокойные – да что с того? Времена всегда неспокойные.
Жили бы себе и жили.
Так нет же: Ваня сам, своими руками петлю на себя накинул!..
И она может, конечно, пойти к Гуковой.
Маша теперь большой человек, большой начальник, зампредисполкома, у нее кабинет в доме Советов. Но не зря же они четыре дня сладкий Ахмедов виноград ели: Маша ее тут же примет, даже разговоров никаких быть не может.
Но что Таня ей скажет?
Ну что скажет... врать не будет. Как есть, так и скажет.
Мол, так и так, Маша, во всем виноват Гатченков... ты ведь знаешь Гатченкова? Директор «Кировского», где Ваня до хлопзавода работал. У него вечно завиральные мысли в голове. Вот и придумал: дескать, у него жених, у Вани невеста. У Гатченкова скот, а у Вани жмых.
Но теперь Ваню арестовали, а он ведь не виноват. Так не можешь ли ты помочь.
Ах, вот в чем дело, скажет Маша.
Округлое лицо сразу построжеет, словно проступили на нем незаметные прежде желваки. Жених, значит, и невеста. Очень хорошо! Ну что же, все ясно. Значит, организатором был Гатченков, а Воропаев на подхвате. Целью своей Гатченков ставил наживу. А для достижения таковой использовал агронома Воропаева: тайно вовлек последнего в преступный сговор. Ведь так получается?
Тане нечем будет крыть, она только немо кивнет.
А если так получается, то что же тут долго рассуждать? – сухо усмехнувшись спросит Маша. И скажет: жаль конечно, что по глупости на народное добро посягнули, да ведь жалость к делу не пришьешь.
А Таня, заранее понимая, что слова ее теперь уж ни к чему, потому что пустыми словами такого дела не поправишь, станет все же беспомощно разъяснять суть, как она ее понимает.
Мол, ведь если бы масляный жмых пошел в дело, скот куда легче было бы прокормить, значит скорее он набирал бы вес. Тогда бы лишнее пустить в торговлю на хлопзаводе! Легче жить-то стало бы, ведь на базаре к мясу, даже когда оно там есть, толком и не подступишься!
Ах, вот как стала ты рассуждать, Красовская, – холодно усмехнется Маша. Даже странно слышать. Прямо не узнаю... Давно ли мы с тобой рука об руку по кишлакам ездили? Давно ли организовывали женсоветы? А припомни, как занакон[4] затолкали тебя в кибитку! Ты испугалась, когда старшая вдруг задрала на тебе юбку. Но оказалось, она лишь хочет убедиться в твоей порядочности. И когда все увидели, что ты приличная, что одета ты более или менее как положено – под юбкой у тебя длинные рейтузы, что ты, следовательно, не по их мужикам в кишлак явилась, а чтобы ликвидировать неграмотность и помогать в организации колхозов, старшая сказала удовлетворенно: «Бозор нест[5]!» – и только после этого они стали тебя слушать. Сама ведь ты мне рассказывала!.. А теперь так и норовит тебя захлестнуть мелкобуржуазная стихия. Чем еще объяснить, что ты не хочешь понимать очевидных вещей! Ведь все и впрямь очень просто: если благодаря задуманной Гатченковым комбинации рабочие хлопзавода получат возможность приобрести шмат мяса по приемлемой цене, это будет лишь побочный эффект его индивидуального обогащения!..
* * *
– О! – сказал Мирошников, когда она открыла дверь. – Красовская! Давненько тебя не видно...
– Да Котька же у меня болеет, Корней Ефремович! – может быть не совсем вежливо оборвала его Таня. – Забежала вот...
Начальник складского цеха Мирошников вообще-то был председателем завкома, но заглядывал раз в год по обещанию, и все на хлопзаводе думали, что Красовская одна всем заправляет. Тем более что если кому приходило в голову обратиться именно к нему, к председателю, Мирошников, не скрывая раздражения, отмахивался: «Не морочь голову! Некогда мне с вами! Красовскую найди, она все знает!»
Но сейчас он верно понял ее отрывистость. Корней Ефремович сложил лист, на котором что-то дописывал и встал из-за стола.
– Все, я в цех, – сказал он и добавил извиняющимся тоном: – Таня! Да ты не волнуйся!
– Как же мне не волноваться! – воскликнула Таня, всплескивая руками. Слезы сами брызнули из глаз. – Как не волноваться-то!
– Ну! Ну! – Ступив вперед, Мирошников товарищески приобнял ее за плечи. От пиджака несло табачищем. – Перестань! Разберутся!
– Да как разберутся!..
– Ну как!.. так и разберутся! Ты пойми, если б его одного! Ведь все производство оголили к Елене Марковне! Прикащикова взяли, Миронова взяли, Мирзаева!.. Я уж думал, и Головачев пойдет! Да и за себя бы грешным делом не поручился!.. – Корней Ефремович досадливо крякнул и сказал, стукнув кулаком по столу: – Ну что ты хочешь, даже Курдюкова взяли!
То, что он говорил, категорически противоречило Таниной схеме, а потому плохо укладывалось в сознании: сикось-накось и беспорядочно, примерно как валятся прутья, если с маху бросить охапкой.
Последнее сообщение проткнуло все предыдущее, и она невольно вскрикнула:
– Курдюкова?! Он же в больнице!
– Оклемался уже, – махнул рукой Мирошников. – Живучий... Да им-то что, хоть бы и не оклемался! Хоть бы и больной, все равно бы потащили, если во вредительстве подозревают!.. Вон Воропаева твоего, говорю же, сколько дней до пожара вообще на заводе не было! И что? Им разве разъяснишь? Им уж если втемяшилось врагов искать, с живых не слезут!
Последнее сорвалось сгоряча, по инерции и уже через мгновение, похоже, показалось лишним.
Во всяком случае, Мирошников досадливо крякнул, а потом вдруг усилился и начал смеяться или, как минимум, издавать звуки, примерно похожие на те, что обычно сопровождают остроту или подначку. А потом добавил, глядя на нее с секундным заискиванием:
– То есть я это... ты, Тань, не подумай чего. Шучу я. А бдительность – что ж. Бдительность дело хорошее.
И развел руками.
* * *
Что дать ей Ванину зарплату без доверенности девочки в бухгалтерии, даже искренне сочувствуя и входя в положение, никак не могут, ее почти не огорчило.
Потому что, во-первых, она и сама так думала, забежала на всякий случай, мало ли. Порядок есть порядок, никуда не денешься, какие тут претензии.
А во-вторых, впереди ее ждало хорошее дело – уж такое хорошее, просто отличное.
Оно еще не началось, это дело, но скоро начнется, не зря она так спешит за него взяться. Оно сдвинется ее усилиями, покачнется, пойдет – и в самом скоро будущем поднимется над ней и над всем ее миром, как поднимается солнце из ночного мрака!
Что могут значить мелкие жизненные неприятности на лучезарном фоне будущего? – на лучезарном фоне будущего мелкие жизненные неприятности могут лишь явить свою очевидную ничтожность.
Таня выбежала из проходной, кивнув знакомому вохровцу, как кивала ему полчаса назад при входе, и поспешила в сторону базара.
Она шагала быстро-быстро, почти бежала, и ситцевая юбка билась вокруг ее торопливых бедер и икр, и так же бились и всплескивались ее мысли.
Конечно, было бы наивно полагать, что Гукова прямо-таки возьмет – и руками разведет ее беду, и сделает все как раньше (да, вот о чем она мечтала: только чтобы все как раньше, чтобы такое же счастье навсегда!).
Ничего Гукова, конечно, не разведет, это ясно. Но ей можно по крайней мере объяснить.
С чего начать?
Нужно втолковать несколько вещей. Во-первых, что Таня совершенно ошибалась, когда подозревала, что Гатченков вовлек Ваню в махинации с этими своими женихами и невестами, за что им обоим теперь обломится по всей строгости. Ничего такого, оказывается, и в помине не было. Она все себе нафантазировала, идя на поводу у собственного страха... и это все неправда.
Но если неправда, стоит ли тогда вообще Гуковой об этом говорить?..
Нет, не стоит, спохватилась она, вот уж совершенно это ни к чему. Не нужно лишнего, мало ли как Гукова поймет... еще что-нибудь тоже вообразит не дай бог на пустом месте. Нет, ничего такого она ей не скажет.
Значит, остается только одна совсем простая вещь: та именно, что Ваня никак, ну просто никак не мог участвовать в хлопзаводском поджоге.
Потому что даже если представить, будто он захотел, чтобы тот самый завод, в который вложено столько его сил, сгорел синим пламенем, – все равно придется признать, что реализовать это дикое желание у Воропаева не было возможности.
По очень простой причине: он ездил по районам! Да, он ездил по районам, потому что посевная, потому что глаз да глаз, потому что он дельный орловский мужик! У таких свой глазок смотрок, у таких ни слова попусту, ни жеста! Не было его в тот день на хлопзаводе, не было! И накануне не было! И третьего дня не было! И она уже не помнит, был ли днем раньше, да это и не важно – не было его, не было, и все тут!
Маша найдет минуту, чтобы выслушать и понять. А если Маша поймет – а она конечно же поймет! – дело за малым.
Понятно, что даже уяснив суть и признав несправедливость обвинения, Гукова не пойдет ногами двери кабинетов открывать. Она вообще в другом коридоре. Но у них с ОГПУ общая столовая. Каждый день небось встречаются. Почему бы ей сегодня за одним столом с Грицем не оказаться? (Ну или завтра, до завтра Таня готова была потерпеть; но завтра – крайний срок!) Простите, у вас свободно? Пожалуйста-пожалуйста!.. Маша женщина видная, с такой всякому лестно хоть посидеть рядышком. Наверняка они знакомы, каждый день толкутся...
Вот она и скажет... так, мол, и так. И ее Гриц, конечно же, послушает. Почему не послушать? Это же Гукова, зампредисполкома. Если ее не слушать, так кого же? Таню слушать никто не станет... что ее слушать, кто она такая этому Воропаеву, они с ним даже не расписаны... вы, гражданка, по какому вопросу?..
А Гукову послушают!
Радостно думая, что вот оно, разрешение, она уже сбегала к дому Советов. Гукова скажет. И все. И тогда будет как раньше.
– Я к Гуковой, – выпалила она часовому на крыльце. – Пустите! Красовская, замзавкома хлопзавода!
Но стрелок не посторонился, а наоборот свел брови.
– К Гуковой, – повторил он ни к чему. – Стойте!
Потом обернулся и сказал в темноту и прохладу:
– Товарищ сержант, Гукову спрашивают.
Через несколько секунд кто-то приблизился к порогу – должно быть, тот сержант, к которому часовой обратился.
Он почти целиком остался в полумраке коридора: только сапоги шагнули на солнце и, свеженачищенные, вспыхнули, засияли, бросив в свет добавочные блики своей сверкающей черноты.
Таня мгновение немо смотрела; потом сказала их плохо различимому в полумраке обладателю:
– Здравствуйте, я Красовская, замзавкома хлопзавода. Мне к Марии Трофимовне на минуточку.
– А вы, гражданка, по какому вопросу?
– По личному.
– По личному, – так же ни к чему, как недавно часовой, повторил из полумрака сержант. – Ладно, подождите.
Тут всегда были такие строгости. Таня послушно ждала. Часовой смотрел на нее, наклонив голову.
Через несколько минут сержант вернулся и снова полыхнул сапогами.
– Замзавкома хлопзавода Красовская? – уточняющее спросил он, как и прежде не показываясь на свет. – Вы Гукову спрашивали. Вообще-то не положено. Но в качестве исключения. Гукову позавчера в Сталинабад увезли.
– В Сталинабад увезли, – продолжая улыбаться, ни к чему повторила Таня. Она еще не поняла до конца, но уже схватилась за слово «увезли», которое значило, что Маша ехала не по своей воле. – И что же, она... ее?..
– Все справки в тамошнем ОГПУ, – сухо сказал сержант.
Но, подведя черту разговору, он сделал к ней шаг.
Целиком оказавшись в солнечном расплаве, сержант ослеплено щурился, молодцевато при этом приосаниваясь: оправлял под ремнем складки длинной сине-сиреневой гимнастерки, а другой рукой кренил покрасивше василькового цвета фуражку на чернявой голове.
А потом, уже опуская ладонь и весело глядя в ее красивое сейчас, раскрасневшееся, еще оживленное приятным ожиданием лицо, вдруг ярко улыбнулся:
– Так что теперь, гражданочка красавица, только там все справочки!
*
[1] Раис – начальник, председатель (тадж.).
[2] Мираби калон – главный мираб, распорядитель полива (тадж.).
[3] [3] Машинно-тракторная станция.
[4] Женщины (тадж.).
[5] Базара нет (тадж.).
