Темы: Культура / Литература
24.07.2014
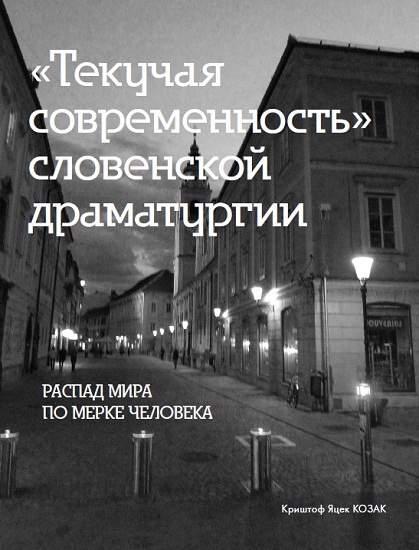
Фото В. Ярошенко
Ж.-Ж. Руссо. «Об Общественном договоре, или Принципы политического права»
Изначально драматургия считалась литературным жанром, цель которого, как позже скажет Шекспир, — держать зеркало перед природой. Но зеркало это было опосредованным, ибо авторов в большинстве случаев интересовала жизнь отдельных людей (еще Аристотеля, к примеру, занимал исключительно характер, а не поступки персонажа драмы, которые в XIX в. привлекут внимание Гегеля), и только через эти отдельные судьбы можно было догадаться о положении дел в обществе, в которое драматурги поместили своих героев. Так, например, только из личной трагедии Гамлета можно было узнать о том, что «неладно что-то в Датском королевстве». Античные трагедии (а также бóльшая часть шекспировских, шиллеровских драм и пьес эпохи классицизма), действительно, всегда описывали отдельных героев и их судьбу, но эти герои были скроены по мерке общества, все они были либо монархи, либо знатные особы самого благородного рода: Эдип — властитель Фив, королем был также Агамемнон; Антигона, воспротивившаяся Креону, была дочерью Эдипа, Медея — внучка бога Гелиоса — убила королевского сына Ясона, и т.д. Таким образом, из трагедий Фиванского цикла можно почерпнуть то, что с крахом отдельного правителя или его рода заканчивала свое существование и конкретная общественная формация. Вот почему к большинству этих героев применимо высказывание Короля-Солнца «l'état c'est moi (государство — это я)»: судьба королей была как бы и судьбой их государств.
Сравнивая античные и классические трагедии с современными драмами, приходится, к сожалению, констатировать, что это малосопоставимые категории. Во-первых, изменились герои: теперь на сцену выходят представители всех общественных слоев. Но хотя их персональные судьбы — действительно только их собственные, идиосинкратические и прочувствованные, тем не менее невозможно полностью исключить оценку общественных отношений, которые вырисовываются на заднем плане, поскольку герои вынуждены жить в предложениях автором обстоятельствах. Современные герои становятся/остаются отдельными личностями, а из развития их драматических судеб всегда можно понять, каково настоящее состояние в обществе и в мире: на основе судьбы миллеровского Вилли Ломана мы узнаем американское общество после Второй мировой войны, а, например, из драмы Равенхилла «Shopping and Fucking» — Великобританию конца XX века. В принципе же можно заключить, что, несмотря на все вышесказанное, отличие современной драматургии от античной в отражении социальных перспектив на самом деле не столь уж разительно, нежели кажется на первый взгляд. Если античные герои, так сказать, воплощали собою государства, то современные представляют собой сугубо pars pro toto, но они так же (если даже не более) информативны, как те — из прошлого. И на основе современных драматических (талантливых: — Прим. ред.) текстов также можно судить о состоянии современного мира, вернее — о современном распаде различных систем в целом. Словенские пьесы в этом плане не отстают от мировых, а возможно, даже входят в число наиболее ангажированных.
После Второй мировой войны словенская драматургия переживала весьма специфическое время, пыталась бороться с общественной системой более тем или иным опосредованным способом: прежде всего поэтической драмой и драмой абсурда, тогда как политические пьесы оставались в тени. Таким образом, понять, что за политический климат царил тогда в СФРЮ, можно было преимущественно на основе либо нарочито абсурдных (П. Божич, Д. Йованович, M. Есих, Э. Флисар, M. Зупанчич), либо поэтических (Д. Смоле, Д. Зайц, Г. Стрниша, В. Тауфер, И. Светина, Р. Шелиго, Б.A. Новак) пьес. Оба этих направления присутствуют в словенском театре и сегодня, тем не менее можно утверждать, что современная драматургия гораздо более открыто интересуется жизнью общества, откровенно бичует извращения современного мира, отображает страдания, причиняемые ими отдельным представителям общества, а в их лице — и в целом общественным группам, представителями которых те являются.
Словенский философ Младен Долар когда-то сказал, что когда-то известный 11-й тезис Маркса о Людвиге Фейербахе следует читать наоборот: дело заключается не в том, чтобы изменить мир, сначала нужно понять его. Именно в этом словенская драматургия проявляет себя вполне современно, поскольку удивительным образом гармонирует с современной мировой философской и социологической мыслью, которая послужит нам опорой при экзегезе нынешних словенских пьес.
Судьбы человеков
Симптоматичными для современного мира являются драматические тексты, представляющие индивидуумов и их смешные, нелепые либо трагические судьбы, возможные только сегодня. Эти пьесы, пусть без непосредственной критики современного общества, показывают страдания простого человека в этом жестоком и несправедливом мире действительно глубоко и актуально. Не называя открыто главных виновников, эти драмы рисуют отдельные человеческие судьбы вопреки постмодернистскому осознанию конца grands récits (метанарративов). С помощью миниатюр драматурги выписывают конкретные комментарии действительных ситуаций, которые во все времена являлись предметом театрального исследования.
В качестве одного из наиболее значительных авторов этого направления можно назвать Драгицу Поточняк. Она — одна из тех редких авторов, кто уделяет внимание двум исключительно современным темам: во-первых, распаду социалистической Югославии, сопровождавшемуся войнами, а во-вторых — маргиналам, обделенным[1].
И хотя голос Д. Поточняк был скорее «гласом вопиющего в пустыне», тем не менее она высказалась откровенно и осудила несправедливое отношение общества к стигматизированным людям «социального дна» или отдельным личностям с социальных окраин. В своих драмах Поточняк изображала военных беженцев («Алиса, Алиса», 1996), цыган («Kalea», 2000), умственно отсталых («Шум, который производят животные, невыносим», 2003), несчастных, но неординарных людей («Танец бабочек», 1994), женщин — жертв насилия («За наших дам», 2006. Эта драма в 2007 г. была отмечена премией Грума как лучшая словенская пьеса прошлого года). Одним словом, ее герои отнюдь не вписывались в благостные пластиковые картинки на телевизионных экранах.
Кризису личности, или, если быть точнее, кризису человеческих отношений уделяет внимание молодой драматург Симона Семенич в своих пьесах, также отмеченных премией Грума: «5fantkov.si» (2008, награда 2009 г.) и «24 часа» (2009, награда 2010 г.). В первой драме посредством различных электронных игр, в которые играют пять мальчиков, автор показывает отрешенность детей от мира взрослых, в котором мы все живем. Во второй пьесе исследуются — так или иначе — пустые, ни к чему не ведущие отношения людей. В итоге герои оказываются лишенными не только друг друга, но прежде всего самих себя, т. е., по сути, лишены фундаментальной человеческой значимости. Единственная ценность, которая у них еще есть, — это стать либо потребителями в современной капиталистической системе, либо отверженными, заслуживающими консолидации per negationem, т. е. маргиналами, которых «благополучное» общество должно считать своими врагами.
Homo sacer/Голая жизнь
Речь идет как раз о таком типе человеческого существования, которое в 1995 году потрясающе описал итальянский философ Джорджо Агамбен и, основываясь на специфическом институте римского права, назвал его homo sacer. Эта синтагма не означает «святости», а обращает внимание на объективизацию определенной группы людей. По словам Агамбена, homo sacer возник в процессе модернизма, который обесценил человека как такового, отнял у него его социальность, при этом единственное, что у него осталось ценного, — это его «голая жизнь», категория, «обитающая в биологическом теле всякого живого существа» (Agamben, 151). Так человек стал объектом, а не субъектом политики, как функции полиса. Святой человек — «святой и прóклятый» одновременно (там же, 88). Это означает, что на самом деле он не относится ни к одной, ни к другой категории: он исключен как из сакрального мира, так и из профанного. Его общественная суть заключается в том, что он изъят из сферы действия человеческих правил, то есть не подчиняется обычным законам, регулирующим отношения между людьми. Поэтому, говорит Агамбен, его можно даже убить. Зажатый между двумя мирами, «святой человек» представляет собою существование «вне». Но именно благодаря этому его жизнь приобретает смысл в обществе, ибо прекращение его жизни — которая жертвоприношению не подлежит — становится основой политической конфигурации (ср. [Agamben 99]. Такой тип донага очищенной жизни Агамбен находит, например, в концентрационном лагере). Но подобные бесправные и «обнаженные» жизни можно найти и в современном обществе. Правда, цель у них иная: их смерть неожиданно консолидирует общество, объединяя его в чувстве отвращения к себе. Проблема, которую Агамбен видит в современности, заключается в том, что границы обычных межчеловеческих социальных, а также этических категорий разрушены «до основанья». Так, Агамбен ныне причисляет к группе отверженных беженцев: «нарушив преемственность, связывавшую человека и гражданина, связь рождения и национальности, беженцы обнажили иллюзию, лежащую в основании суверенитета современного типа. Вместе с беженцем, являющим собою этот разрыв между рождением и нацией, на политической сцене на какой-то миг вдруг оказывается “голая жизнь”, которая и есть его тайная, подлинная сущность» (там же, 142). Более чем очевидно, что в этой роли оказываются главным образом социальные парии, в числе которых сегодня находятся в основном обделенные слои — нелегальные иммигранты, «бомжи», нищие, просители убежища, беженцы, цыгане, душевнобольные и т. п.
Таким образом, эти драмы обнажают общественную перспективу, ибо через индивидуальные судьбы героев пьес в деталях вырисовывается картина общества и отношения в нем.
В этой группе, прежде всего вновь стоит отметить Д. Поточняк и ее драму «Алиса, Алиса» (1996), в которой автор со всей остротой выносит на суд публики драматический конфликт боснийской беженки Алисы. Алиса относится к группе «святых людей», и именно это почему-то дает людям основание совершать над нею дальнейшее насилие. Драма представляет собою, во-первых, бессильный протест Д. Поточняк против войны в бывшей Югославии, во-вторых — обличение общества, которое под личиной «милосердия» и «миротворчества» попросту издевается над этими несчастными, допуская еще и психологическое насилие. В конце концов, пред нами предстает удручающая картина психопатологии общества, которое, чтобы чувствовать себя увереннее, непременно должно издеваться над другими, унижая их человеческое достоинство.
Молодая девушка, по ассоциации с «Алисой из Страны чудес», являет собою центр всех этих чудовищных видений, а все более патологически-жестокое поведение словенской мещанки раскрывает лживость и извращенность общества, которое допускает это. Поскольку Алиса не может дать отпор своей «спасительнице», попросту загоняющей ее в угол, она выбирает самоубийство — как единственный оставшийся ей выход. Беженка приносит себя в жертву на алтарь «нормальности» современного мира, сошедшего с ума. Осуждение бесчеловечного и аморального общества вряд ли могло бы быть более жестким и открытым.
Драме «Упражнения по страху» Мёдерндорфера в 2012 году была присуждена премия Грума в номинации «Лучший словенский драматический текст прошлого года». Эта «Пьеса о нынешнем времени» (таков у нее подзаголовок) дает почувствовать целостность представленных отношений. Мир персонажей драмы, в соответствии с современными прогнозами (которые, например, сделал Пол Кругман[2]), разделен на два социальных слоя, поскольку третий, так называемый средний «образованный» класс, в соответствии с докладом Кругмана, опускается все ниже по социальной лестнице, все больше беднеет и практически исчезает. Об этом писал также и Наом Хомский в своей книге «Прибыль на людях». Поэтому, вероятно, не случайно Мёдерндорфер взял цитату из этой книги в качестве эпиграфа к другой своей драме — «Десять», речь о которой пойдет ниже.
Наиболее многочисленный — нижний слой (вслед за мировым протестным движением последних лет можно сказать, что речь идет о большей части известных 99%), с трудом балансирующий на пороге нищеты. Это люди, которые по тем или иным причинам (недостаточное образование, неуверенность в себе, пассивность, страх, «вписаться в предлагаемые обстоятельства» и т. п.) не смогли выбиться в число обеспеченных. В драме «Упражнения по страху» классовые противоречия в современном обществе символически показаны с точки зрения нижних социальных слоев: лишних рабочих, безработных уборщиц, зомбированных сотрудников, полностью зависимых от владельца/работодателя, выполняющих приказы «хозяина» в роли «шестеренок» в жесткой капиталистической системе и т. д. Больше всего поражает образ Шефики, матери двоих детей, работающей уборщицей в фирме и вдруг оказывающейся «технологическим излишком». Потеряв даже эту грязную работу, она не может прокормить своих детей, поэтому «прячется <…> от них, когда они плачут. Закрывается <…> в туалете, покуда они не заснут» (Möderndorfer: Vaje iz tesnobe, 20). Она приходит на фирму, где раньше работала, умоляет о помощи, но каждый раз ее прогоняют вон. Однажды Шефика признается, что больше не любит своих детей, ибо «трудно их любить, если не можешь накормить» (там же, 62). Но, оказывается, детей уже нет, она их убила. Потом Шефика покончила с собой. Хотя кто-то может возразить против подобной «чернухи» и экстремального представления отдельных жизней, однако стоит отметить, что еще до Агамбена социологи предсказывали подобные судьбы. Один из них — Рене Жирар, в своей теории насилия, которая якобы является центростремительной силой сообщества, обосновал ритуальное жертвоприношение отдельных представителей этого сообщества. То есть речь идет о группе людей, которыми возможно, если даже не необходимо, пожертвовать для консолидации сообщества. Это «внешние или маргинальные индивидуумы, которые неспособны устанавливать или поддерживать общественные связи, связывающие других представителей общества. Статус чужих или врагов, рабское положение или просто старость не позволяет этим будущим жертвам полностью интегрироваться в общество» (перевод цитаты, цит. по [Bauman 2002, 245]). Именно эти люди, выпавшие из общественного механизма, становятся вдруг по-настоящему «лишними».
Все упомянутые драмы показывают отдельные судьбы людей, которые живут «жизнью, недостойной жизни» (Agamben 147). Но шокирует на самом деле не то, что такое существование возможно (история знает различные формы общественных отношений), а то, что такие судьбы существуют до сих пор в современном мире, который должен был бы стать, перефразируя слова философа Панглосса из «Кандида» Вольтера, «лучшим из миров», однако этот мир не только допускает, более того, он вновь и вновь «воспроизводит» таких отверженных. Людей, которым нет места в нашем потребительском счастье, а точнее — людей, которых наделяют функцией лишь тогда, когда они оказываются исключенными из «благополучного» общества. Последний вывод призывает к более широкому размышлению о современном мире, его развитом обществе и так называемых общечеловеческих ценностях.
«Текучая современность»
«Текучая современность» — это метафора, которой З. Бауман определил состояние современного мира. «Текучесть» призвана иллюстрировать непрерывность перемен, которые несут с собой ключевые черты эпохи: непостоянство, неуверенность, неопределенность и как следствие — страх. Прежде всего — относительно самого человеческого существования. Одноименная книга З. Баумана вышла в 2000 году и стала зловещим предсказанием не грядущего, а уже настоящего времени, ведь автор не оставляет нам ни одной иллюзии: время прошлого мира, мира «традиционной лояльности, обычных прав и обязанностей» (Bauman 2002, 8) бесповоротно истекло, возврата к старому способу существования не будет. Единственное, что нам осталось, — как можно лучше приспособиться к новому состоянию. Современное же состояние бесцеремонно диктует и определяет неолиберальная экономика, посредством глобализации окончательно захватившая также и мировую политику, а свои закономерности, которые можно назвать «социальным дарвинизмом», распространила на все сегменты современного общества. Проще говоря, капитал не принимает во внимание человека, из-за этого оказываются под угрозой фундаментальные ценности общества. Изолированный индивид является более легкой «добычей» современного капитализма, нежели крепко сколоченная «корпоративная» группа. Функционирование жестокого современного мира направлено на изоляцию и одиночество человека, ибо тогда коллективные ценности, такие как, например, свобода, безопасность и доверие, становятся все более относительными и неважными.
Эти ценности потеряли свою абсолютную, длительную значимость и подчинились изменчивости и гибкости жизненных ситуаций. Поэтому и для отдельного человека больше нет никаких констант, а только изменения, и это проникло во все пóры современного общества. Межчеловеческие связи потеряли прочность и заразились «распадом, ломкостью, хрупкостью, переходностью, мимолетностью» (Bauman 2002, 21). Поскольку непостоянство связей требует от человека постоянного изменения, под угрозой оказывается само человеческое бытие: вместо субъекта, как бы это назвал А. Бадью, получаем индивидуум, т. е. вместо идентитета — лишь идентификацию, да и то временную. Поэтому современные «сообщества <…> теперь лишь эфемерные артефакты сиюминутной игры индивидуальности, а не силы, которые выбирают и определяют идентитеты» (Bauman 2002, 31). Таким образом, основа безопасности человека и его жизни разрушена. Кризис, в котором оказались основные человеческие потребности, не только этический, но и онтологический, поскольку он коснулся каждого человека как личность, а не как представителя класса или какой-нибудь группы по интересам.
Если в «старом», прошлом мире человек мог реализоваться в рамках своего социального круга, гарантировавшего включенность в устойчивые общественные отношения, то цена сегодняшней невключенности — наша полная «свобода» и ответственность за себя (кажущаяся). Пока выхода не видно, ибо невозможна никакая революция или любая иная форма сопротивления (без оглядки на то, что говорит Стефан Эссель в своей книге «Indignez-vous!»), поскольку, как утверждает Бауман, «самые распространенные трудности индивидов сегодня не складываются» (Bauman 2002, 46). Общество избавилось от ответственности за индивида, а в его неудачах винит только его самого. Рецепт избавления вообще-то есть: пример «американского сна», в рамках которого у каждого из нас есть возможность добиться успеха, если сосредоточиться, чего-нибудь сильно захотеть и приложить максимальные усилия, но уравнение похоже на проблему прохождения верблюда сквозь игольное ушко. Бóльшая часть из нас все равно останется с другой стороны…
Именно непременное желание, жажда успеха ныне является инструментом, с помощью которого современный неолиберализм посредством капиталистических механизмов контролирует современного человека. Современное общество «этический/политический дискурс из рамок “справедливого общества” переместило в рамки “прав человека”» (Bauman, там же 39).
Индивид убежден, что у него есть только права, которые принадлежат ему по праву, однако не спрашивает себя: а заслужил ли он их? Современное общество базируется на «постоянно ускользающем обещании беззаботной жизни» (Bauman, там же 93). Уверенные в том, что эти права должны у нас быть, мы становимся зависимыми от них и как следствие готовы сделать всё, даже поступиться какими-то другими, ранее отвоеванными правами, чтобы их сохранить. Так мы становимся лишь «расхожим материалом» современного капиталистического механизма.
Крушение Европы
Среди словенских драматургов одним из наиболее беспощадных критиков современного мира, несомненно, является М. Зупанчич с такими своими драмами, выходящими в свет с начала нового тысячелетия, как «Коридор» (2002; премия Грума 2003) и «Класс» (2005, премия Грума 2006). В этих двух ранних пьесах М. Зупанчич еще ограничивался конкретной культурной проблемой: в «Коридоре» речь идет о съемках реалити-шоу, а в «Классе» — о повышении квалификации служащего большой корпорации. Драматург выявляет, высвечивает человеческие недостатки: реалити-шоу ограничивает пространство, в котором живут избранные герои, весь смысл их пребывания — соревнование между собой, из-за чего на первый план выходит самый низкий, недостойный человека инстинкт, обеспечивающий выживание сильнейшему, самому хитрому и бессовестному конкуренту. А принцип обучения в драме «Класс» ломает хребет служащему, который хочет добиться повышения и готов для этого пойти на всё, даже на (само)обесчеловечивание. В обеих пьесах речь идет о «новомодных реалиях современной, заимствованной из США жизни, которые приводят не только к распаду человеческих ценностей, но и к разложению, деградации человеческой сущности.
Но наиболее значимыми стали последние драмы М. Зупанчича, составляющие, по мнению некоторых теоретиков, своеобразную трилогию: «Реклама, секс и обжорство» (2008), «Shocking Shopping» (2010, премия Грума 2011) и «Крушение Европы» (2011), — трилогию, рисующую картину распада общественной системы. В этих трех пьесах Зупанчич расширяет проблему отдельного человека на общество в целом — с его утилитарностью и неолиберальной бессовестностью. Кажется, что общество и является центральным героем. «Реклама, секс и обжорство» — драма о взлете и падении современного бизнесмена, не гнушающегося никакими средствами для достижения цели. Как и в реальной жизни, в пьесе тоже обваливаются финансовые рынки, вчерашние победители становятся сегодняшними проигравшими, и зарвавшийся предприниматель Март вдруг теряет всё. Драматург позволяет себе всего два субъективных отстранения: в его пьесе финансист сам расплачивается за свои ошибки, тогда как реальный мир более милостив к ним; ранее же осмеянный предприниматель Тибор, финансовые запросы которого гораздо скромнее, использует кризис для своего роста, а свою «империю» строит постепенно. Так (вроде бы) плохие наказаны, а хорошие — награждены.
Совершенно иначе происходит в драме «Shocking Shopping», в которой охранник супермаркета убивает двух покупателей — клептомана, которого он подловил на мелкой краже, а затем свидетеля этого убийства, который на самом-то деле ничего не видел. Олигархичные структуры, пытающиеся прикрыть свои грязные дела, наказывают невинных. Но им-то «закон не писан», им всё сходит с рук. Пословица «Деньги правят миром» оказывается тут очень уместна. У кого есть деньги, тот владеет «правдой», какой бы искривленной и фальшивой она ни была. Все это происходит в совершенно непрозрачном бюрократическом лабиринте, где левая рука не ведает, что творит правая, и ни один из тех, кто входит в этот лабиринт, никогда не находит выхода обратно.
В пьесе «Shocking Shopping» внимание М. Зупанчича фокусируется на власти, той самой, которую устанавливает над другими капитал, и тех злоупотреблениях, которые капитал позволяет себе по отношению к людям. Речь идет о контроле над людьми сверху, что, по мнению польского социолога Зигмунта Баумана, является существенным новшеством текучей издалека современности. У Зупанчича мы находим практически доведенную до абсурда ситуацию, которая могла бы произойти с любым из нас в любом торговом центре. «Святого человека» у Зупанчича напоминает главный герой — серый непримечательный человек, который выиграл главный приз супермаркета. Но чтобы получить приз, ему необходимо подписать гротескно большие горы документов — кому из нас не знаком мелкий шрифт, квадратики, которые нужно (или не нужно) зачеркнуть, чтобы стать членом избранного общества тех, за кем издалека следит неизвестный взгляд, отмеривая и анализируя каждый ваш шаг: вот тут-то и начинаются сложности, и герой становится невольным свидетелем убийства. Прямо за его спиной неуравновешенный охранник убивает попавшегося воришку. Этот несчастный маргинал в современном стерильном обществе не заслуживает особого внимания. Чтобы скрыть инцидент, руководство супермаркета пытается убедить покупателя, выигравшего главный приз, забыть обо всем случившемся. Героя загоняют в ловушку собственного решения, он становится жертвой логической природы языка. Руководство требует от него всё забыть, но он бормочет, что не может ничего забыть, ибо ничего не видел! Чисто техническая деталь и точность выражения стоили ему жизни: взбешенный охранник сворачивает ему шею. Человек Зупанчича на самом деле не Человек, субъект, а лишь индивид без содержания, у которого лишь одна функция — олицетворять своим существом «пищу» для потребительского конвейера, но как только происходит конфликт, он оказывается ненужным, выброшен за борт...
Последняя драма Зупанчича называется многозначительно «Крушением Европы». «Европа» — это отель, на презентацию которого собираются «сливки» местного общества. Все они настолько хорошо знают друг друга, что их ничто не может удивить в поведении других: всё это они уже видели и всё о других узнали. Всё сильнее пьянея, они играют свои обычные роли, покуда средь этой «элиты» не появляется незнакомец — один из участников митинга протеста, которого поймал и привел в отель охранник. На протяжении всей драмы они присваивают его себе, как игрушку, затевая с ним свои гнусные «игры», до тех пор пока его, когда он, в конце концов отчаявшись, пытается сбежать, не убивает охранник. Этот несчастный значит для гостей гораздо меньше, чем дичь на охоте, ведь это даже не почетный охотничий трофей, он обесчеловечен до предела — Зупанчич не наделяет его ни именем, ни индивидуальностью, не дает ему сказать ни слова — он интересен только, пока шевелится, периодически пытаясь сопротивляться жестоким «играм». То есть он интересен тем, что живой. Без сомнения, Незнакомца Зупанчича можно было бы отнести к наиболее агамбеновским фигурам в современной словенской драматургии.
Разложение этого общества ясно отражает «клуб богатых» в Европе; очевидна параллель с событиями, происходившими на континенте после кризиса 2008 года. Никто не безгрешен, любой, каким бы чистым он ни казался, имеет за спиной нечистое прошлое, у каждого есть свой «скелет в шкафу», и, как выясняется, никто из этих «избранных» не достигает даже минимальных этических стандартов. Полный декаданс. Характерно, что в этих своих драмах Зупанчич предсказывает только крах такого общества, не видит выхода и не предлагает решения ни для человека, ни для группы (класса), ни на уровне события или действия. Состояние мира таково, какое оно есть, говорит он нам, и уже ничего нельзя исправить.

Так же пессимистичен и В. Мёдерндорфер в вышеупомянутой драме «Упражнения по страху», в которой каждый протагонист воплощает, так сказать, свой класс.
Так же беспощаден к современным представителям капитала и Д. Янчар в драме «Легкая конница» (написана в 2003, предпремьера в Словении в 2008 году). Из всех драм только в «Легкой коннице» события разворачиваются именно в Словении, поэтому необходимо учитывать тогдашнюю двойственность словенского общества: с одной стороны, связанные с властями директора предприятий на глазах у всей страны хладнокровно, легально приватизируют всё. Происходит перераспределение некогда общего народного достояния, что, согласно политической экономии Маркса, можно назвать «первичным накоплением капитала», которое ни в одном из постсоциалистических государств не было справедливым. Одновременно общество столкнулось с явлением глобализации, т. е. с наглым вторжением иностранных мастодонтских предприятий на ранее гораздо более защищенный локальный рынок. Итак, Янчар показывает мир, с одной стороны, привязанный к традиционным местным ценностям, а с другой — заигрывающий с открытым миром и его капиталистическими «благами».
Бауман в своей книге о глобализации предупреждает, что «неотъемлемой частью процессов глобализации является нарастающая пространственная сегрегация, отделение и отчуждение» (Bauman, 7), что порождает процесс «эрозии локальной традиционной целостности и сомнения в ней» (там же, 20).
Именно этот процесс крушения традиционных ценностей стал темой драмы Д. Янчара, противопоставляющей урбанистическому неолиберальному обществу идиллию словенской деревни. Контраст между ними тем разительнее, чем сильнее изображенная местная «Аркадия» ассоциируется со словенской буколической иконографией с холмами и барочными церквями на их вершинах. Разумеется, это воплощает безопасную родную среду, где жизнь всегда текла по накатанной колее, практически не меняясь веками. Контраст двух миров и воплощаемых ими ценностей и является основой центрального конфликта драмы: капиталист, тайкун нового времени Макс Глобокар после своего неожиданного появления в деревенской церквушке хочет отказаться от своей прошлой алчной жизни. Макса определяют два качества: с одной стороны — глобализированное; он все еще — самый успешный предприниматель, самый богатый и влиятельный олигарх, от которого зависит всё вокруг и который в действительности рушит традиционное устройство мира. Лучше всего таких людей характеризуют слова Баумана: «Новая элита познала опыт внеземной власти — невероятное и пугающее сочетание эфемерности и всемогущества, бестелесности и способности формировать действительность» (Bauman 1998, 26).
С другой же стороны, это качество очень локально: таков и Макс после преображения. Ключевым его качеством становится стремление к деревне, вновь открывшей безопасность вековых традиций и ценностей. Причиной такой трансформации олигарха стали усталость от погони за деньгами, пресыщенность, скука, вызванная пустотой формы, ужас от собственной человеческой ничтожности. Ему хватит всего этого, и хочется новой, невинной жизни.
Однако от него зависят слишком многие, поэтому все — и семья, и друзья — хотят, чтобы он вернулся назад. Причина одна: они привыкли, чтобы он и дальше заботился о них. Но Макс не сдается. При этом он слишком много знает обо всех, все они — у него в руках, хоть он больше и не один из них. Опять мы сталкиваемся с парадигматической ситуацией в современном обществе, это подтверждает Бауман, цитирующий мнение Мишеля Крозье, что «манипулирование неопределенностью представляет собой квинтэссенцию стремления к власти». Именно поэтому больше всего власти у тех, кто смог стать источником неопределенности других» (цит. по: Bauman 1998, 42). Так как его бывшие сотоварищи не могут смириться с тем, что он их контролирует, поэтому единственное, что им остается, — убить Макса. Они застрелили его в церкви в то время, когда он созерцал отреставрированную фреску.
Янчар разрешает конфликт моралистически — в итоге грешник все-таки наказан.
Распад христианских ценностей
Насколько глубоко увязло в проблемах современное словенское общество — хотя Словения ничем не отличается от других стран Западного мира, — отдельные словенские драматурги решили показать прямо и совершенно откровенно. Серьезность кризиса системы отражают пьесы, рисующие полный упадок основных ценностей западной цивилизации, что происходит одновременно с концом западной фундаментальной религиозной системы — христианства.
Ценности всегда определяли общие «правила игры» любого сообщества и таким образом являлись его соединительной тканью. То, что сообщества должны действовать по правилам, осознавали уже с самого начала: помимо вавилонского Кодекса Хаммурапи (около XVIII в. до н. э.) еврейский моральный кодекс (Исх.20:2-17; также Втор.5:6-215), в отличие от ритуального (Исх.34:14—26), представляет собой один из первых списков общественных правил. Десять заповедей, которые, предписывая, позволяют; запрещая, освобождают; ставя условия и ограничения, создают условия для упорядоченного, гармоничного сосуществования людей. Эти фундаментальные ценности абсолютны (евреи и христиане верят, что на горе Синай, окутанной густым дымом и огнем, в шуме разбушевавшейся стихии, сам Бог продиктовал Моисею десять заповедей). И это значит, что они без каких-либо исключений действительны для всех, а их нарушение влечет тяжелые последствия, еще более серьезные для общества, нежели для индивида. Ведь нарушение хотя бы одной из заповедей подрывает основу гармонично устроенного сообщества.
Противопоставление современного мира идеалистическим христианским ценностям выявляет полный распад «общественного договора», ибо противостояние двух различных систем ценностей — современной и традиционной — обостряет понимание кризиса. Такое видение имеет двойной эффект, приговор современному состоянию общества звучит сильнее как раз благодаря представлению иного этического подхода, существующего вот уже два тысячелетия.
Несмотря на то, насколько сегодня, в реальной жизни присутствуют и учитываются христианские ценности, необходимо признать, что это единственная система, предлагающая относительно эффективную, по крайней мере обнадеживающую, организацию общественных отношений. Но, как известно, и эта система разлагается из-за автоматизации и коммерциализации общества. Сегодня мы без особых угрызений совести чтим нового «бога»: маммону (от этого предостерегает одна из десяти Божьих заповедей). И хотя можно было бы предположить, что мы имеем дело с цикличностью в человеческой цивилизации, широта сегодняшнего поклонения «золотому тельцу» не имеет аналогов в истории.
В словенской драматургии распаду христианских ценностей эксплицитно посвящены две драмы Янчара и одна — Мёдерндорфера. Первая из них — «Легкая конница» Янчара, о которой уже шла речь выше, — в основу центрального конфликта ставит символически расколотый надвое мир: городской, глобализованный, и деревенский, идиллический — выступающий носителем христианских ценностей, что автоматически предполагает эсхатологическую справедливость. Эта символика имеет особое значение для словенского общества, поскольку словенская деревня с эпохи Контрреформации как на физическом, так и на символическом уровне носит печать присутствия католической Церкви до такой степени, что связывает ее с самой сутью словенства. Янчар также представляет пространство церкви с отреставрированной фреской как некое убежище от вторжения «грешного» внешнего мира. Так в сакральном церковном символе складываются две идеальные платформы: субъективно это оазис мира, уголок осознания, усердного созерцания и безопасности, а коллективно — основа символа вечной и неизменной справедливости. Поскольку христианство традиционно связано с сутью словенства, открывается еще одно измерение, которое определяет церковь, — это домашность. Именно противоположность урбанизированности, имеющей свойства космополитизма, домашность, традиция, деревня обеспечивают защиту и сохранение ценностей. Поэтому конверсия Макса происходит в обратном направлении: назад в тот мир, из которого он вышел, т. е. в руральность, а вместе с этим автоматически также несет возврат к этическим христианским ценностям. В качестве коронного доказательства метафизической основы пьесы в целом, помимо аллюзий на Бога-Творца, Янчар описывает символическую трансформацию фрески, на которой вместо трех коней, символизирующих трех волхвов на пути в Вифлеем, вдруг оказываются четыре всадника Апокалипсиса. Вряд ли текст пьесы мог бы быть более символичным и выразительным.
То, что выбор тематики христианских ценностей был не случаен, подтверждает и следующая драма Янчара — «Тихо тикают часы» (Niha ura tiha, 2008 год), состоящая из семи картин, персонажи в которых практически не связаны между собой. Объединяет их общая тематика — семь смертных грехов. В первой картине под названием «Невидимая пыль», посвященной греху сребролюбия (avaritia), описывается ужин у нувориша и выскочки-парвеню, у которого до сих пор «торчит солома из ботинок». Разговоры о деньгах и «финансовом инжиниринге» раскрывают карьеристские и пошлые души собравшегося сообщества. Следующая картина — «Ночная аптека» — говорит о похоти (luxuria): женщина под сильным принуждением описывает своему партнеру подробности вечера, когда она изменила ему. Третья — «Семерка» — показывает грех уныния (acedia) на примере пары: она пожилая актриса, он инвалид, вежливость которого перерастает в насилие над ней. «Поминки» — четвертая картина, тема которой — чревоугодие (gula). Скорбящие участники тризны сидят за столом и вспоминают покойника, но все очевиднее становится настоящая причина их присутствия — жратва, ведь ни о покойном, ни о ком-нибудь другом никто не может сказать ничего хорошего. Пятая картина, «Донос», показывает зависть (invidia). К «просветлению» героя ведет сам Люцифер, якобы несущий «свет». «Посетитель» — предпоследняя картина на тему гнева (ira). В четыре часа утра пожилую пару будит незнакомец, который, как выясняется, оказывается живым трупом. Муж, виновный в его смерти, уже ничего не помнит. Несомненно, эта тема часто возникает в творчестве Янчара: расправы югославских «красных» партизан с ополченцами в Словении сразу после Второй мировой войны. Последняя, седьмая картина — «Маятник» — посвящена гордыне (superbia), тут конфликт между представительницей министерства культуры и мятежными деятелями искусства кончается тем, что они захватывают тело чиновницы и делают из него маятник в пространстве.
Отличительная черта этих «картин» Янчара в том, что он описывает конфликтные ситуации, в которых неясно, какая из сторон является носительницей греха. Все зависит от точки зрения, ведь грех можно приписать как одной, так и другой стороне, что ставит под большой вопрос проблему недвусмысленной христианской экзегезы. Вывод закономерен: возможно ли утверждать, что в современном мире мы должны иметь дело с ясно разграниченными ценностными позициями или же можем просто ловить рыбу в сфере мутной этики (пользоваться неразберихой в сфере этических вопросов)? В отличие от «Легкой конницы», где позиция протагониста была ясна, на сей раз Янчар поступает иначе, точнее. Мы все без исключения участвуем в создании современных Содома и Гоморры.
Заповеди наоборот
В ряду драм на тему христианских ценностей стоит отметить совсем свежий текст, номинированный в 2012 г. на премию Грума, — удивительно комплексное произведение «Десять». В нем Мёдерндорфер обращается к еще одной общей теме эсхатологической экзегезы мира — к десяти заповедям, цитируя их из Второзакония — пятой книге Пятикнижия Моисея. Записанные таким образом заповеди звучат более комплексно, так как запреты обоснованны, определены возможные последствия их нарушения, при этом всегда имеется в виду наказание. Мёдерндорфер запутывает текст, здесь нет перехода от одной заповеди к другой, они предстают случайно; некоторые из них, по мнению автора, наиболее часто нарушаемые, в разных эпизодах повторяются по нескольку раз (заповедь «не укради», например, дважды, а «не убий» — даже трижды). Так создается особый драматургический изгиб, разбивающий монотонность и вводящий особую таксономическую напряженность.
Действующие лица — три пары: молодые, средних лет и пожилые супруги. Так в трех жизненных периодах воплощаются рядовые обыватели и возможные комбинации отношений между ними, создается целый веер отношений, иллюстрирующих динамику современного общества. Отдельные эпизоды связывает меж собою рамочный сюжет, который возникает отчуждающей красной нитью, свидетельствуя о смене персонажей. В основе драмы — конфликт поколений и, конечно, вечный вопрос: кто виноват?
Мёдерндорфер представляет основные заповеди Декалога: да не будет у тебя других богов пред лицем Моим; помни день субботний, чтобы святить его и т. д. Заповеди как литературная тема не являлись бы революционным новшеством, если бы не специфическая инновация Мёдерндорфера, переворачивающая всё с ног на голову. Разумеется, заповеди имеют свою парадигматическую форму, но тут интуитивное понимание положений и ценностей смещается. Например, четвертая заповедь говорит о том, что нужно почитать своих отца и мать. Следует ожидать, что речь пойдет о ребенке, который неправильно ведет себя, но оказывается, что проблема-то обратная: родители, в данном случае мать, эмоционально шантажирует и как следствие — насилует своих детей. Драма «Десять» представляет этический переворот, когда ожидаемое положение вещей переворачивается «с ног на голову» и предстает в своей противоположности. Ценности нынче совсем не такие, что были раньше: они распались и стали дурными привычками, так что теперь те, к кому они были обращены, нуждаются в защите. Ренессансная scala naturae (цепь создания природы), или большая цепь жизни, якобы установленная божественной силой, тут полностью развалилась и тоже перевернулась с ног на голову. Текучая современность «размягчила» вечные правила, лишила их смысла, и из-за этого мир окончательно сошел с ума.
Мёдерндорфер заканчивает свою драму рамочной историей в картине, названной «и есть пустыня на свете». В финале в живых остается лишь Младенка (символизируя праматерь всего живого), отсчитывающая последние мгновения Старого Света, полностью осознавая это: «Я одна. Ева без Адама во всем мире. Во всей Вселенной» (65). Но как единственная выжившая она — метафора всех нас: в погоне за личной выгодой мы настолько отказались от общества, что полностью демонтировали его. Как индивиды мы потеряли то, к чему внешне так яростно стремились: ощущение удовлетворения и безопасности. Мы достигли противоположного эффекта — остались одинокими и обворованными. Оказалось, что мы «мухи-однодневки». Это понимает и Младенка, когда произносит свой монолог:
Одна планета врезалась в другую, и наступил конец. Во сне. В фильме. В одно мгновение конец всего. Десять заповедей. <…> Конец всего. Не только человека. Всех людей. И смерть всех людей — реальное ничто. Нет никакого продолжения. Никакой морали. Никакого Бога, который бы заплакал. Никто во Вселенной не будет грустить о нас. Кто? Что? Существо? Бытие? Ничего. Страдание? Ничего. Ничего. А смысл? Суть? То, что останется. Если останется. Не останется. Что имеет смысл, если в конце тьма? И будет тьма. Вечная. Когда я досчитаю до десяти, наступит тьма.
Разложение современного общества, крушение ценностей, изоляция и одиночество человека — постоянные темы современной словенской драматургии. Современное общество и весь мир узурпировали силы капитала, чья цель — без угрызений совести разбогатеть за счет любого, у кого еще что-либо осталось. Поэтому необходимо было разбить органичность «твердой» современности, а людей разобщить и сделать одинокими. Люди органично более не принадлежат современному обществу. Не являются его составной частью, они лишь попутчики («члены», по определению Баумана [Bauman 1998, 41]). Мы состоим в обществе как добровольцы, а не как органичная его часть. Нам кажется, что мы можем выбирать — быть нам включенными или нет, но при этом все больше людей этой возможности уже не имеют. Это «изгои», «святые люди» Агамбена. И все больше становится тех, чье членство в «клубе» просрочено.
Современная словенская драматургия точно и верно отражает вступление человека в мир «текучей современности» Баумана. В этой современности разлагаются «силы, которые были способны сохранять вопрос порядка и системы в политической сфере» (Bauman 2002, 11). А у отдельных людей, которые являются объектом использования этой новой силы, земля уходит из-под ног, их охватывает страх, они хватаются за спасительную соломинку, которую протягивает хозяин, какой бы хрупкой она ни была. При всем страстном желании, чтобы наши дела шли лучше, с возрастающим страхом мы тонем все глубже. Конец всех человеческих гарантий у вышеназванных драматургов выразителен и ясен.
В то же время становится ясно, что речь идет о черте, которую нельзя было даже проводить, а не то чтобы переступать. Но тут уместно задать вопрос: кого сегодня это еще волнует?
Так современную словенскую драматургию можно воспринимать как отчаянный крик о спасении, если оно еще возможно, адресованный современникам: чувствуем ли мы пустоту мнимых ценностей вокруг нас? Действительно ли мы на пути к веселому Апокалипсису? Сколько же времени нам осталось?
Библиография
Agamben, Giorgio. Homo sacer: suverena oblast in golo življenje. Ljubljana: Študentska založba, 2004.¸
Bauman, Zygmunt. Globalization: the human consequences. Cambridge: Polity Press, 1998.
— – –. Tekoča moderna. Ljubljana: *cf., 2002 — русск. пер. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с англ. — Москва: Весь мир, 2004.
Chomsky, Noam. Profit pred ljudmi: neoliberalizem in globalna ureditev. Ljubljana: Sanje, 2005. Русск. пер. «Прибыль на людях. Неолиберализм и мировой порядок».
Krugman, Paul. “Class Wars of 2012.” New York Times, 29. november 2012.
Möderndorfer, Vinko. “Vaje iz tesnobe.” Sodobnost 76-7/8, julij/avgust 2012, 783-849.
– — –. Deset (tipkopis). Ljubljana, 2012.
Potočnjak, Dragica. Drame. Ljubljana: Knjižna zadruga, 2010.
Semenič, Simona. 5.fantkov.si. (машинопись). Ljubljana, 2008.
– — –. 24 ur (машинопись). 2010.
Zupančič, Matjaž. Shocking shopping (tri drame). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012.
Примечания
- Следует упомянуть, что помимо Д. Поточняк югославскую трагедию творчески отобразили Душан Йованович своей «Балканской трилогией», полностью вышедшей в свет в 1997 г.: это «Загадки мужества» (1994), «Антигоны» (1996) и «Кто поет Сизифа (1997), а также Борис А. Новак, написавший трагедию «Кассандра» (2001).
- “Class Wars of 2012”, русск.: «Классовые войны 2012 года», опубликовано в New York Times, 29 ноября 2012).
Перевод Татьяны Филимоновой
