21.03.2015
Предисловие
Załóżże twój szmaragdowy pierścień...
Konstanty Ildefons Gałczyński[1]
Эта книга — ни в коей мере не антология, но, скорее, поэтический дневник 1960-х — 2010-х годов. Действительно, польская поэзия как некий невещественный «изумрудный перстень» сопровождала меня всю сознательную жизнь: от студенческой юности до последних лет.
С моей точки зрения, польская поэзия, от средневековых ее форм до нынешнего изощренного верлибра, как и всякая подлинная поэзия, есть поэзия метафизического удивления. Удивления сокровенной сутью жизни.
Парадоксальным образом она была для меня и учебником моей родной русской поэзии. Ибо, несмотря на все различия — фонетические, грамматические, смысловые, — русский и польский языки близкородственные. И судьбы обеих поэзий — от времен ранней кириллической словесности до нынешних времен — также переплетены.
Но это — тема особого разговора филологов и литературоведов, благо, конкретным сторонам этих поэтических связей посвящены сотни монографий и статей.
Мои же переводы, предлагаемые здесь читателю, осуществлялись вольно и спонтанно, безо всякого заведомого плана, безо всякого соблюдения принципа представительности или пропорциональности. «Ẻже писảхъ, писảхъ».
И всё же, думается, эта книга, вобравшая в себя полувековые мои труды, дает какое-то представление о лике польской поэзии сквозь века. Сочетание высокого духовного настроя и композиционной выверенности, неизбывного трагизма и самоиронии — это как бы врожденные черты Польской Музы и ее служителей.
На мой взгляд, поэт-переводчик в каждом конкретном случае, в каждой своей конкретной творческой «стратегии» должен искать свою осознанную свободу[2] на пересечениях четырех несхожих дисциплин:
— внутренней дисциплины оригинала,
— дисциплины русской поэзии,
— дисциплины научного исследования (понимание языка, страны и эпохи оригинала),
— дисциплины собственного поэтического опыта.
Так что поэт-переводчик — не раб творца оригинала, и не соперник, но, скорее, свободный, хотя и почтительный собеседник.
*
Разумеется, польская и наша русская поэзия — при всех (если вспомнить стихи Пастернака) «скрещеньях» их судеб на протяжении всей их истории — не идентичны одна другой. Не идентичен их образный строй, не идентична их просодия — эта воистину внутренняя музыка поэзии. Не идентичен и стоящий за каждой из них человеческий опыт
Но внутренняя сопричастность судеб обеих поэзий, равно как и обоих народов — налицо.
Был в моей жизни один далеко не поэтический эпизод, заставивший глубже пережить эту внутреннюю сопричастность языков, истории и слова. Но также — и сопричастность поэтических смыслов.
Это было в Варшаве, на исходе мая 1989 г., на предвыборном митинге «Солидарности» в кинотеатре, что напротив костела св. Станислава Костки (на тогдашней площади Парижской Коммуны). Предвыборную программу «Солидарности» представляли правозащитник Яцек Куронь и филолог-русист Анджей Дравич. Оба, к сожалению, уже ушедшие из жизни.
Так вот, несмотря на ропот и возмущение некоторой части публики, оба оратора говорили о необходимости для будущей, возрожденной Польши дружеских отношений с будущей Россией. И говорили они как бы в один голос.
По их словам, российская ситуация того момента, когда на первый план истории выдвинулись Горбачев и его сподвижники, опирающиеся на передовую интеллигенцию, сулит этой родственной полякам славянской стране большие и грозные испытания. Ибо Россия, по мысли Куроня и Дравича, накопила в себе такую массу социальных, этнических, региональных и культурных противоречий, что рано или поздно они непременно выйдут наружу. Так что «перестроечная» эйфория, по определению, обречена. И будущие судьбы России заслуживают понимания и сострадания.
И я, уже в те годы чувствовавший историческую обусловленность наших «перестроечных» иллюзий, почувствовал и другое: как ни сложен и ни противоречив политический процесс, — сколь важен и спасителен в истории настоящих и будущих поколений тонкий нерв живой культуры! В частности, и тонкий нерв культуры польской, воспитанной поэзией Мицкевича и Норвида, Стаффа и Тувима, Милоша и Херберта...
*
Каждый из разделов этой книги предваряется краткими справками о поэтах.
Два слова об оформлении книги. После каждого стихотворения дается датировка: в числителе — примерная дата создания подлинника (если только я сумел ее восстановить), в знаменателе — дата перевода.
*
Итак, повторяю, эта книга, которую держит в руках милостивый мой читатель, — никак не антология, но лишь некое «приглашение в путешествие» (invitation au voyage, если вспомнить Бодлера) по королевству, или, точнее, по республике (Речи Посполитой) Польской Музы.
Eugeniusz B. Raszkowski
Bogurodzica (XIV в.)
Гимн «Bogurodzica» — первый дошедший до нас памятник польской поэзии. Однако памятник, до сих пор сохранившийся в литургическом обиходе Польской церкви и любимый миллионами поляков.
Язык этого памятника — старопольский, с мощными церковно-славянскими влияниями. Язык, еще не сложившийся в современном его облике.
Согласно новейшим исследованиям польских ученых, первые три строки первой строфы оригинала строятся по формуле: пять слогов — цезура три слога —, или наоборот; итого — восемь слогов (5 + 3 = 8)[3]:
Bogurodzica / Dziewica,
Bogiem sławiena / Maryja...
Во второй строфе эта формула выражена менее строго. Смысл этой числовой символики, на мой взгляд, таков. Три знаменует Божеское (Св. Троица), пять — человеческое (пять чувств, пять пальцев), восемь — Воскресение Христово как мистический Восьмой день творения и преображения мiра. Короче, в этой числовой символике зашифрована идея Богочеловечества как духовной сути христианства.
Влияние восточно-христианской духовности на этот ранний гимнографический памятник польского католицизма сказывается не только в его близости древнеславянской языковой стихии. Текст гимна вольно или невольно ассоциируется с основной «триадою» деисусного чина: Спас в Силах — Пречистая Дева — Иоанн Креститель.
Богородица Мария,
Всечестнảя, Пресвятая,
Как у Господа Владыки
Ты, возлюбленная Мати, —
Снизойди и прости.
Кирие, элейсон![4]
Со Предтечею и Сыном
Помыслы возвысь людские,
Мы к Тебе мольбы возносим,
У Тебя усердно просим
Долю честную на свете,
Радость вечную по смерти.
Кирие, элейсон!
/ 17.02.1988
Рыдание у Креста (вторая половина XV в.)
«Lament Świętokrzyski» — один из ранних памятников польской духовной поэзии.
Читался (или, точнее, рецитировался), по всей видимости, на богослужениях Великой Пятницы, о чем явно свидетельствует текст первой строфы.
По мнению специалистов, это — возможно — лишь сохранившийся фрагмент пассиона (большой мистерии о Страстях).
Послушайте, милые мои братья!
О злой беде должна рассказать Я.
Беспощадный исполнился срок:
У Креста стою в Великий Пяток.
Послушайте, старые и молодые:
Годы жестокие, годы злые!
Был Сын единственный Мне предназначен, —
Отняли Сына. Стою и плáчу.
Какая печаль, какая година!
Гляжу на истерзанного Своего Сына,
Сын — в руках человека лихого,
Но в ответ — ни вздоха, ни слова.
Гляжу на Тебя, Сынок, с тоскою:
Болью Своей поделись со Мною,
Я под сердцем Тебя носила,
При жизни Твоей верно Тебе служила.
Надежда Моя, скажи Мне хоть слово,
Уходя из мiра земного.
Окровавленный, уходишь, страдая,
А как облегчить страданье — не знаю:
Головушка Твоя виснет без силы,
Кровь по телу — Я бы раны омыла,
А чтобы жаждущему напиться —
Пригоршней подала бы водицы,
Да только к Телу Твоему святому — Мне не пробиться...
Архангел Божий, Гавриил,
Ты Мне такие слова говорил,
Ты Мне такую радость сулил!
Со слов твоих благодатной Меня называли,
А теперь стою Я в тоске и печали,
Всё тело болит, все кости устали.
Добрые матери! Услышьте Мою мольбу, —
Чтобы не знать вашим деткам такую злую судьбу,
Которую нынче претерпеваю:
Вместе с Сыном Своим страдаю,
Муки Его безвинные — на Себя принимаю.
И вот, стою в тоске, в немоте.
Сын Мой прекрасный гвоздями прибит на Кресте.
/ 26.11.2010
Действо об исходе души (конец XV в.)
Название оригинала этой мистерии — «Skarga umierającego» («Сетования умерающего»). Первый целиком сохранившийся памятник драматургии на польском языке.
Болящий
Так печально помирать!
Только не могу понять,
Где душа моя очнется,
Где душе приют найдется.
Жизнь свою провел я блудно,
Бесполезно, безрассудно,
Жил, гулял, а нынче — глядь:
Вышло время помирать.
Где пристанище сыскать?
То, что я хранил повсюду —
На гумне или под спудом,
По амбарам иль в дому, —
Уж с собою не возьму.
Где вы, годы молодые?
Где труды мои былые? —
Лишь землицы восемь стоп
Мне отмерены на гроб.
И печаль одна с дружками:
Навещают меня,
Утешают меня,
А сами
На добро мое косят глазами.
Что им до моей души?
Я-то всё веселиться спешил
Да грехов своих толком не исповедовал.
Окружающие
Еще малость поживи
Да священника призови,
Чтоб душа твоя успела
Приобщиться Божью Телу!
Болящий, он же Умирающий
Душа моя, душа моя,
Что же ты спишь?
Только опомнись —
Себе же добро сотворишь!
Душа моя, душа моя,
Мой драгоценный цветок,
Как от тебя отступиться я мог,
Во грехе злому духу предаться мог?
Люди
Что накопил — за душу отдай,
Дом и угодья свои беднякам раздай,
Щедростью своею — друзей добывай.
И будет тебе дорога в Рай.
Кто должник твой? Кто враги?
Людям отпусти долги.
Душу не томи долгами:
Деньги вгонят в адский пламень.
Болящий
Боже, Боже! Слышу слухом,
Вижу взором — злые духи
Бередят мои грехи,
Расставляют мне силки.
Боже, Отче милосердный,
Мой Заступниче усердный,
Упаси от бездны серной!
К душе обращается Ангел
Припомни чин своего крещенья,
Припомни с Господом обрученье
И от диавола отреченье.
Сколько раз ты, душа, обеты свои преступала!
Вот и пора отвечать настала.
Болящий
Ангеле Божий, душа разбита!
Нету ни силы моей, ни защиты!
Мгновений моих — осталось немного.
Нету друзей. Вся надежда — на Бога.
Люди добрые, сейчас отлечу!
Люди добрые, зажгите свечу!
Смертный холод, кровавый пот...
Что нынче со мною — вас завтра ждет.
Хор
Изошла душа из тела,
Изошла и отлетела,
Поблуждала, полетала,
На лугу зеленом встала,
Горько-горько зарыдала.
Апостол Петр к душе подходит и спрашивает
Ты почто, душа, рыдаешь?
Душа ему отвечает
Каюсь, плачу и страдаю,
И пристанища не знаю,
Потеряла я пути,
Где пристанище найти?
Апостол же Петр говорит ей такие слова
Подойди ко мне, сердечная!
Возведу я тебя в Пределы вечные
Силою Царства Небесного.
Так взойди ж, горемычная, к Вечному дому —
Ко Отцу, и Сыну, и Духу Святому.
Аминь.
.
/12.03.2007
Краковский аноним (1620)
Этот гимнографический памятник, до сих пор принятый в вечерних богослужениях Польской церкви (Nieszpory)[5], представляет собой перевод латинского оригинала, одобренного в 1615 г. Папой Павлом V. В основе содержания и образного строя гимна — прославление Девы Марии как олицетворения Премудрости Божией, воспетой в Книге Притчей Соломоновых:
Возвела Премудрость Свой Храм,
вытесала семь колонн... (9:1)[6]
Гимн начинается словами: «Радуйся, Дево Премудрая...».
Witaj, Panno mądra...
Премудрая Дево, Богом освященный
Выше всей Вселенной Храм семиколонный!
На Тебе от века — чистая порфира,
Ты всегда превыше всех соблазнов мiра,
Всей земли надежда и спасенных слава,
А для тех, кто в море, — радостная гавань,
Перед силой вражьей — век необорима,
Христиан надежда, Дочь Ерусалима!
1620 / 17.01.2010
Станислав Трембецкий (1739-1812)

Из вступления к поэме «Софиевка»
Станислав Трембецкий — один из крупнейших поэтов-эрудитов польского классицизма. Поэт, чья поэтика сложилась в XVIII столетии, был близок кругу последнего короля Польши Станислава Августа Понятовского, позднее — к аристократическому кругу кн. Адама Ежи Чарторыского. В первые годы XIX столетия этот круг связывал свои надежды на возрождение Польши с ожиданием культурного и гражданского расцвета России, с тем скоротечным чаянием законности, конституционализма и свобод, которым было отмечено «дней Александровых прекрасное начало»[8].
Созданная в 1802-1804 г. поэма «Софиевка» («Sofijówka», или «Zofijówka») представляет собой подробное поэтическое описание одноименного парка графа Щенсного Потоцкого, выстроенного им в честь графини Софии (Зофьи) под Уманью. Последние годы жизни Трембецкий провел в имении графа Потоцкого в Тульчине. После Революции могила поэта была уничтожена.
Адам Мицкевич считал Трембецкого одним из своих предшественников, имея в виду не только красоту его стиха, но и мастерство обстоятельного поэтического повествования. Так что без «Софиевки» на было бы, возможно, и «Пана Тадеуша»... —
Приветствую тебя под южным небосводом,
Страна, текущая и молоком, и медом,
Где под присмотром многомудрых пастухов
Пасутся табуны игривых скакунов!
Найдутся ль на земле еще такие страны,
Где гордые собой курдючные бараны
В сознании своей бараньей правоты
Колесами влачат тяжелые хвосты?
На жирной сей земле, на сей земле зеленой
Растут колосья ввысь, как башни Вавилона,
А от разъятых тел да от людских кровей
Украйны чернозем теперь еще жирней...
Эпохи и века проходят друг за другом.
И так случается, что, шествуя за плугом,
Вскрывая целины слежавшийся покров,
Находит пахарь бивни боевых слонов[9].
Чтó было? —
Под степным пространным небосводом —
Один порядок — век за веком, год за годом, —
Один порядок, заведенный навсегда:
За царством царства шли, а за ордой — орда.
На здешних рубежах Востока и Европы
Боролись меж собой дворяне и холопы,
И от вражды людей дичала вся земля,
Змеившийся ковыль порабощал поля.
В былые времена — година за годиной —
Безумием людей терзалась Украина,
Но выдавались столь жестокие года,
Что запорожская и крымская орда
В совместной ярости и в злобе сладострастной
Железом и огнем терзали край несчастный[10].
Кровавые бунты да южный злой сосед
В степях оставили опустошений след[11].
И людям был удел: всё грабежи да войны,
Да выживание по милости разбойной...
От ярости судеб спасла наш мирный кров
Великодушная царица Северов[12]
И оградила нас державною рукою
От запорожского и крымского разбоя[13],
И под защитою миротворящих сил
Истерзанный сей край — очнулся и ожúл.
Над неприютными морскими берегами[14]
Ордесса[15] расцвела веселыми холмами,
За груды золота морские корабли
Вывозят хлеб — живое золото земли...
1802-1804 / 17.11.2009
Адам Мицкевич (1798-1855)

Имя Адама Мицкевича, — воистину, короля польских поэтов — говорит само за себя.
Двустишие «Знак» входит в сборник коротких стихотворений Мицкевича 1834-1835 гг. «Zdania i uwagi» («Воззрения и заметки. Из трудов Иакова Бёме, Ангела Силезского и Сен-Мартена»).
Знак
Каждый из избранных — свыше отмечен, но не одинаков.
Только вот горе народу, прошедшему мимо божественных знаков.
1834-1835 / 12.10.2003
Gdy tu mój trup...
Когда теряю сам себя в собранье глупом,
Когда вокруг меня снуют и мельтешат, —
Я посреди людей живу ходячим трупом,
Но далеко от вас скорбящая душа:
Душа моя живет в покинутой отчизне —
Я силой памяти к себе ее зову —
Реальнее моей реальной полужизни,
Роднее всей моей родни по естеству.
Забросив все долги, заботы и забавы,
Забросив все труды безумные свои, —
Спешу к себе в Литву. Благоуханны травы,
Шумят аллеи пихт, играют воробьи...
И видится еще: со светом, спозаранку,
Оставя позади свой неприметный кров,
Спешит, или — верней — плывет ко мне белянка
Среди зеленых волн мерцающих хлебов.
Париж, 1839-1840 / 12.09.2011
Юлиуш Словацкий (1809-1849)

Бесподобный перевод стихотворения Словацкого «Mój testament» («Мое завещание») принадлежит Борису Пастернаку. Бесподобный — но, как мне кажется, за одним исключением: пастернаковский перевод последней строфы, прекрасный сам по себе и немало дающий для понимания Пастернака, не вполне отвечает замыслу и смыслу оригинала[16].
Из стихотворения «Mój testament»
(последняя строфа)
...Я несу в себе силу таких принуждений, —
Это стóит при жизни тоски и морщин, —
Но отродье людей, хлебоедное племя,
Всё же выйдет когда-нибудь в Ангельский чин.
1839-1840 / 27.04.1994 (Великая Среда)
Зыгмунт Красиньский (1812-1859)
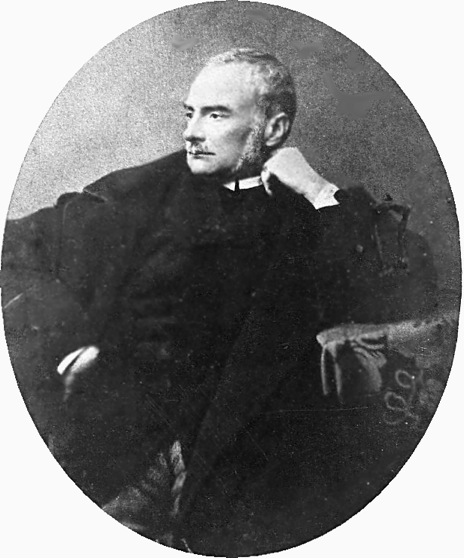
Красиньский — один из плеяды великих романтических и метафизических польских поэтов XIX столетия.
Пока солнце взойдет...
За Польшу правый бой ведется дни и ночи.
Я твердо верую: вовек она не сгинет!
Предвижу славу я. Но всё ж терзаюсь ныне:
До солнечных лучей — росою выест очи...
Я твердо верую: счастливой быть и сильной
Стране моей родной, — но волны камень точат,
И плоть людскую разъедает червь могильный, —
До солнечных лучей росою выест очи...
Неумолимые текут века и годы,
Но Божеская мысль — о будущем пророчит.
Дождемся ль торжества? Дождемся ли свободы? —
До солнечных лучей росою выест очи...
Сжигали нас любовь, предвестие, томленье, —
Нам так хотелось жить, — но путь во тьму бессрочен...
Увидят ли рассвет иные поколенья? —
До солнечных лучей росою выест очи...
Рим, 1852 / 12.05.2011
Циприан Камиль Норвид (1821-1883)

Среди великих польских поэтов-романтиков, может быть, именно Норвид отличался особой метафизической глубиной, изысканностю ритмов, остротой социального и культурного критицизма и афористической отточенностью поэтического мышления. Стихи Норвида легко «читаются», но интерпретация их — дело нелегкое. Их смысловая насыщенность — залог их особой исторической прочности.
Из двустиший
...Да будет воля Сына Твоего
В отчизне нашей — так же, как и в Небе...
Берлин, 1845 / 14.05.2008
Из стихотворения «Jeszcze słowo»
Миротворцы — блаженны. Клянусь: ты увидишь,
Как они нарекутся сынáми у Бога[17].
И клянусь: не наследует Царства подкидыш.
И не будет конвоя к родному порогу[18].
Рим, 1848 / 14.10.2011
Когда лавры созревают
[19]1
Каковы к потомству пути-дороги?
Честолюбив от самого детства,
Ты сам назначаешь себе чертоги,
Только вот в этих чертогах — не засидеться.
2
Не твоею волею двери тебе открыли,
И не сам по себе вознесся ты от земли, —
Только мнится тебе: за спиной — огромные крылья,
А что разглядят потомки? — Разве что след в пыли...
3
Славословия — льстивы они и бурны,
Словно некий фанфарный зов...
С тихим звоном круглые камешки падают в урну.
А потом — Тишина. В Тишине — подсчет голосов[20].
1865-1866 / 02.10.2011
Smutno...
Печальное дело — замкнуться в своей скорлупке.
Но много печальней и сердцу еще темней —
Стоять пред могилою жизни, бедной и хрупкой,
И духу навязывать помыслы юных дней[21].
07.03.1881 / 31.10.2011
Леопольд Стафф (1878-1957)

В одном из своих стихотворений Константы Ильдефонс Галчиньский назвал Стаффа «Аполлоном поэзии польской». Мастер строгой классической формы, он виртуозно «обручил» польскую традиционно-силлабическую поэзию с искусством силлабо-тонического стихосложения; в последние же годы жизни он немало потрудился над становлением лапидарного и насыщенного польского верлибра.
Мечислав Яструн писал о нем: «Слава его (вопреки самой природы славы) была тиха»[22].
Осенний дождь
Вот осе6нь дождями струится по стеклам,
А я наблюдаю из комнаты теплой,
Как мокнут деревья, как улица мокнет...
Стеклянные капли ложатся на окна,
А воздух за окнами серый и блеклый...
Осенние капли всё бьются о стекла.
Когда-то под солнцем так часто мечталось,
Но осень пришла, и дожди, и усталость,
И даль потемнела, и воздух всё стынет,
И мысли уходят куда-то в пустыню,
Идут чередой по пустынным просторам,
Как темные странники в рубище черном...
Дожди заглушили все отзвуки речи,
Скитальцы уходят, уходят далече,
Уходят далече, сквозь ливни и слякоть,
А небо их, словно бы, хочет оплакать...
А капли со звоном стучатся о стекла,
И я наблюдаю из комнаты теплой,
Как мокнут деревья, как улица мокнет...
Стеклянные капли ложатся на окна,
А воздух за окнами — серый и блеклый...
Осенние капли всё бьются о стекла.
Куда мне уйти? На какую чужбину?
О ком я тоскую? Кого я покинул?
Всё плачет за окнами ветер ненастный...
Кто умер? Я в памяти роюсь напрасно...
Над чьей-то могилой стоял я под ливнем...
Кто знал меня прежде? Кто счастье сулил мне?
И явственней чувствуешь горе чужое...
Повесился нищий, добитый нуждою,
Хотя мы медяшки ему подавали...
И дети сгорели в соседнем квартале...
А капли звенят монотонно о стекла,
И я наблюдаю из комнаты теплой,
Как мокнут деревья, как улица мокнет...
Стеклянные капли ложатся на окна,
А воздух за окнами — серый и блеклый.
Осенние капли всё бьются о стекла.
Я видел, как между деревьями сада
Бродил сатана. И невидящим взглядом
Он мерил растенья, И пепел горстями
Ленивой рукою, холодной, как камень,
Разбрасывал молча. И падала звонко
Из рук сатаны вместе с пеплом щебенка.
Потоптаны травы. В грязи георгины.
Оборваны листья. Не сад, а пустыня,
Сырая пустыня, пустынная слякоть,
И хочется небу пустыню оплакать...
А капли всё бьются и бьются о стекла,
И я наблюдаю из комнаты теплой,
Как мокнут деревья, как улица мокнет...
Стеклянные капли ложатся на окна,
А воздух за окнами серый и блеклый...
Осенние капли всё бьются о стекла.
1903 / 1963
Иней
Серебристой зернью
Бледноголубой —
Заморозок первый.
В сердце — непокой.
Мерзлый грунт упорно
Прорезает вол.
Бороздою черной
Перечеркнут дол.
Что-то поневоле
Гонит из жилья.
Листья мчатся в поле...
Молодость моя,
Не гляди, как стынет
Зеркало реки.
Иней. Первый иней
Выпал на виски.
1908? / 1968
Над водой
Ручейка полевого вóды,
Воды, воды, в вашем звучанье
Различаю печаль природы, —
Недосказанное молчанье.
С тихим звоном текущие воды,
Воды, воды полей туманных, —
Как полны вы, светлые воды,
Сонным холодом первозданным!
Как обманчив покой ваш, воды,
Воды, воды, в чью рябь глядится
И густая синь небосвода,
Облаков гряда, — и зарница.
Но напрасно вы шепчете, воды,
Воды, воды полей туманных,
Что ваш путь — это путь свободы,
Легкий путь к волнам океанов, —
Только знаю, как тяжко, воды,
Прорываться сквозь глубь земную
И бежать сквозь версты и годы,
Красоту земную минуя.
Ручейка полевого воды,
Воды, воды, в вашем звучанье —
Вечный круговорот природы,
Непрорвавшееся молчанье.
1914 / 1979-80
Kto szuka Cię...
Тобой утешится скорбящий,
Отведает голодный хлеба,
Кто ищет — навсегда обрящет,
И в небе тот, кто жаждет неба.
Недосягаемый, незримый,
Не слышный здешними ушами...
Но и во тьме необоримой,
В тоске моей неисцелимой —
Неумолкающее Пламя.
1927 / 1967
Высокие деревья
Нет на свете прекрасней деревьев высоких!
Может, самое главное в жизни моей —
Наблюдать, как земли подымаются соки
По разводам и сводам стволов и ветвей.
Эти ветви в игре расходящихся линий,
Этот шелест листвы, отходящей ко сну,
Эти реки в мерцании красок павлиньих,
И кузнечик, который стрижет тишину,
И медлительный август, сходящий на кроны,
И густеющий воздух свободы моей —
Золотой, голубой, темно-синий, зеленый —
По разводам и сводам стволов и ветвей!
1932 / 06.08.2006
Три городка
Были три городка на свете —
Такие маленькие,
Что все могли бы
Уместиться в одном.
Нет их на нынешней карте,
Всех их спалило войною,
Потому что
Жили в них люди
Миролюбивые,
Кроткие,
Работящие...
Братья мои ленивые,
Братья мои безразличные, —
Почему вы не ищете
Эти три городка?
Жалок человек —
Проходит по лику Земли,
Ни о чем,
Никого
Не вопрошая.
1954 / 31.10.2004
Возвращение
Май, деревья в цвету — словно райские древа,
Растворяемый утренним солнцем туман,
Тишина и роса. Первозданное небо.
И, как древле, — седых облаков караван.
Чтó же истина? Облачные ли кочевья?
Или нечто за гранью земного бытья?
Или эти цветы, или эти деревья? —
Или ты, невозвратная юность моя?
1957? / декабрь 1967
Дыхание ночи
Тихая ночь,
Ты,
Под сапфиром небес,
Под спокойным мерцанием звезд
Дышишь во сне
Тихим блаженством.
Но что там таится
В темной твоей глубине?
Глубже вздохни...
1957? / Декабрь 1967
Тень
Когда вблизи от нас великий холод бродит,
И краток наш привал, и путь во тьму бессрочен, —
Как примириться с тем, что время — не исходе
И что полудня тень — начало долгой ночи?
1957 / Январь 1968
Stojąc sam...
Перешагнув рубеж последний,
Припомню ль, как зовешься Ты,
Мой неумолчный Собеседник
Из мiра вечной немоты?
1957? / 1967
Вечер
Покачиваясь в лодке,
Лежу в тишине.
Надо мною звезды,
Подо мною звезды,
Звезды — во мне.
1957? / 1967
Толстой
Владея всем —
И ничем не владея,
Бежал от печали
Толстой.
Бредý
Владыкою собственной тени.
Радость.
И зной дорог.
1957[23] / Декабрь 1967
Болеслав Лесьмян (1878-1937)

Лесьмян (псевдоним Болеслава Лесмана) — один из самых мелодических, фантастичных и вместе с тем трагических польских поэтов прошлого столетия. Первоначально писал стихи на русском языке, частично опубликованные в символистских «Весах».
Зрелое творчество поэта связано прежде всего с природой, фольклором и историей юго-восточной Польши (он служил нотариусом в Сандомире). Одно из последних его стихотворений — как бы невольное и страшное предчувствие бедствий Второй мiровой войны и Холокоста, тем паче, что воеводства юго-восточной Польши лежали в сердцевине театра военных действий Первой мiровой, сражений между польскими и украинскими отрядами, Советско-польской войны 1920 года, об ужасах которой мы читаем в «Конармии» Исаака Бабеля.
Глухонемая
Помню, в нашем селе объявилась немая.
Я б не думал о голосе девушки, если
Не прочел бы случайно, — но как, я не знаю —
В ее кротких глазах затаенную песню.
Как зовут ее? — Имя забыто на свете.
Может быть, только смерть и шепнет это имя
И прикажет: «Пойдем!» — Я бы стал ее смертью,
Чтоб пространствами с ней поделиться своими:
Может быть, на краю запредельной долины,
Где навек обрывается жизни граница,
Я б из мертвой груди вырвал крик лебединый,
Чтоб взлетели в испуге озерные птицы...
...По лугам, за околицей, узкая речка
Извивалась и где-то терялась в тумане.
Старый дед-рыболов мне сказал: «Человече,
Нету нашей реке ни конца, ни прозванья:
Кто зовет ее Ближней, а кто и Далекой,
Кто зовет ее Звонкой, а кто и Могилой.
Нет ей имени... Здесь, в этой узкой протоке
Волны быстрые многих навеки укрыли...»
... А какие над нашим селеньем закаты!
Разойдется по небу лиловое пламя,
Стынет воздух, — и полнится сердце мечтами
О неведомых реках, что снились когда-то.
И в такой-то вот вечер, сырой и росистый,
Когда солнце пунцовое в заводях тонет, —
Безголосая птица! — по-птичьему быстро
Шла немая, к реке протянувши ладони,
И стояла она на песчаном откосе,
Разметалась коса по плечам ее голым, —
Мне казалось: незримые сети забросив,
Ловит глухонемая свой собственный голос
Или, может быть, ловит свое отраженье...
Чуть звенят под откосом притихшие волны...
В празднословии, в суетном нашем круженье
Мы не видим того, что увидит безмолвный.
Подымает туман золотистые клочья.
В наплывающей тьме растворяются тени.
Всем на свете чужда, меж закатом и ночью...
Над рекой безыменною — дух безыменный.
1912 / май 1964
Бессонница (вариант)
Кто там дробно так и страшно
Бьет по ставням и воротам? —
Этой ночью вихорь влажный
Разрыдался отчего-то...
Кто во тьме, в тумане сонном
Причитает так напевно? —
Этой ночью бор зеленый
Воет на краю деревни...
Волны, звезды, колокольцы...
Наплывают сны рекою...
Если кто-то не с тобою —
Успокойся, успокойся.
1915 / Март 1964
Mrok na schodach...
Пустота и тьма в дому.
Видно, здешним никому
Не нашлось в лихую пору
Ни пощады, ни опоры.
Дом стоит пустым-пустой.
Тьма на лестнице крутой.
Но понять и не проверить, —
Только ветром дом провеять
Да ближайшие пути
Белым снегом занести...
Ранее 1936 / 08.07.1997
Ярослав Ивашкевич (1894-1980)
Стихи Ивашкевича — одного из самых известных и популярных польских писателей ХХ столетия — взяты из сборника «Книга Ночи» (1929).
Книга ночи, VII
Задувает фонарь предместья
Осеннего ветра струя.
Мы снова все трое вместе:
Женщина, пес и я.
И всё, что во тьму забвенья
Кто-то когда-то унес, —
В парке ночном, осеннем
Оживает...
Мы бродим, как тени:
Женщина, я и пес.
Столько смеха, слез и нерадостных дел
В темном городе нам завещано...
Кто мы? Откуда? И где предел?
Амур златокрылый давным-давно отлетел...
И мы во тьме.
И пес, и я, и женщина.
1929 / 1964
Книга ночи, XXXI
Тихий город Марбург,
Весь позавчерашний.
Встали над снегами
Башенки и башни.
Над обрывом замок.
Облаков достигнув,
В небеса взмывают
Каменные иглы.
Чудище резное,
Камни древней веры, —
Город под обрывом
Разметался веером.
Небо розовеет.
Видно, вечер близок,
А река под снегом —
Не река, а призрак.
Охватило город
Полумглой лиловой,
И тоскою сердце
Охватило снова.
В долгий вечер зимний
Свой камин нежаркий
Разведу...
И тихо
Опрокину чарку.
1929/1964
Книга ночи, XXXIII
Кому-то — от чужих долин
Хрустальный плеск нездешних вин, —
Иным, не унывали чтоб —
Еврей-корчмарь да водки штоф.
Кому-то — готики полет,
Где Бог гармонии живет, —
Иным — в углу избы сырой
Холодный Бог, как домовой.
Кому-то нужен с давних пор
Глубокий, тонкий разговор, —
Иным — тоска, трактирный чад,
Блевотина и пьяный мат.
Кому-то — розы по садам, —
Иным — непоправимым, нам! —
Кисель распутицы, и степь,
И черный день, и черный хлеб...
1925 / 1962 / 15.12.2010
Альбом из Закопаня, № 17
Тщедушен, грозен, обмундирован.
Что за воинствующий вид!
И что это за такая за новость:
«Назад, панове! Проход закрыт!
Добром прошу: отойдите скорей!
Птицы такие у нас нередки.
Небось, беспартийный? Небось, еврей?
Небось, пописываете в газетки?
Где проживаете? В какой такой хате?..
В Польше?.. — Да Польша тут не при чем!..» —
Хотя бы денек, оболваненный братец,
Прожить бы мне в бедном сердце твоем...
Zakopane, 1975 / 16.09.2014
Юлиан Тувим (1894-1953)

«Петр Плаксин» Юлиана Тувима:
польско-русско-еврейская кукольная мистерия
Комедию с Петрушкою
/.../
Смотрели тут они.
Комедия не мудрая,
Однако и не глупая /.../
Н. А. Некрасов. Кому на Руси жить
хорошо. Глава 2.
То, что я предлагаю ниже почтенному моему читателю, — в жанровом отношении далеко от обычного «научного» разыскания. Это, скорее, — презентация нового поэтического перевода, подкрепленная некоторым кратким рассуждением.
В основе этого раздела нашей книги — мой перевод юношеской поэмы Тувима, опубликованной в недавно изданной книге литературного наследия польского поэта[24]. Эта первая публикация, к сожалению, оказалась дефектной: по моей оплошности, из нее выпала весьма сильная вторая строфа шестой главки.
Оригинал был написан в 1914 г.[25]; поэма вошла в книгу стихов «Пляшущий Сократ» (1920).
Источник текста: Tuwim J. Dzieła. T. 1. — W-wa: Czytelnik, 1955. S. 156–162.
Два слова о принципе перевода. Система рифм оригинала: а-б-в-б, причем рифмы точные. Мария Сергеевна Петровых говорила мне об этой системе: «Стих намеренно однообразный и заунывный, словно шарманка». Эта система рифмовки сохранена в переводе М. Ландмана[26]. Однако, для передачи «эффекта шарманки» именно в русской просодии, я вынужден был прибегнуть к системе рифмовки а-б-а’-б, причем первые и третьи строки связывались, как правило, неточными рифмами и ассонансами.
В основе, перевод был осуществлен мной на исходе 1962 г, но текст был потерян и забыт. Однако летом 2008 г., т. е. без малого полвека спустя, какая-то сила заставила меня вспомнить потерянный текст и отредактировать его заново. Возможно, немалую роль в таковом припоминании сыграли два обстоятельства:
— беседы с Ириной Павловной Уваровой и чтение ее театроведческих трудов и
— мои занятия еврейской историей.
На первый взгляд, никаких еврейских смыслов, тем и аллюзий в тувимовской поэме не содержится — разве что строфа об эфемерном Илье Слономоськине. Может показаться, что поэма — лишь псевдорусская стилизация, псевдорусская словесная игра на тему о злоключениях «смешного человека». Благо, поэт учился в лодзинской русской гимназии[27] и любовь к русской поэзии пронес через всю жизнь. Огромный вклад Тувима в культуру польского перевода русской поэзии, а также его опыты по интродукции русского силлабо-тонического стиха в польскую поэзию — вещи общеизвестные.
А к скрытой еврейской проблематике поэмы о Петре Плаксине мы еще вернемся. А сейчас — предложу читателю ее полный текст. Итак, —
Петр Плаксин
Чувствительная поэма,
Вильяму Хожице[28] посвящаемая
1
На Уныло-Хандровской станции[29],
В Мордобойском уезде где-то
Телеграфист Петя Плаксин
Не умел обращаться с кларнетом.
Судьбу музыкою пылкой
Он переиграл бы упрямо, —
Ан нет...
Такова предпосылка
Нижеописанной драмы.
Жизнь — это грустная шутка.
Порой — безо всякой причины —
Является нечто жуткое.
И люди гибнут безвинно.
Как будто стальные рельсы,
Сплетаются беды и боли,
И хлещут, и хлещут, и хлещут,
Въедаются в раны солью,
И мчит беда, как составы,
Мимо станций нощно и денно,
И только гудки усталые
Тают в туманах осенних...
Бывало, качаясь в тамбуре
Поезда, ночью морозной, —
Башку обхватишь руками,
Тихонько вздохнешь — и в слезы...
2
Под гундосый писк аппарата,
В обшарпанном зданье вокзальном
День за днем тосковал Петя Плаксин,
А отчего — не знали.
Не ведал кассир Статейкин —
Мужчина весьма картинный,
Не дурак по части питейной,
Лучший друг мадам Катерины,
Не знал Илья Слономоськин,
Служивший здесь контролером:
Он тяготел к бомонду,
Ко всем станционным фурорам,
Не знал и техник Запойкин,
Человечек вовсе не плевый,
Хитроватый, на вид спокойный,
Имевший оклад сторублевый,
А уж Прокофий-то Ссаныч Рубленко
Не ведал об этом подавно:
Он — любитель тяпнуть маленько —
Был на станции чуть ли не главным.
А уж станционный начальник —
Фигурра[30] в уездном свете... —
Кому еще знать печали
Телеграфиста Пети?..
3
Но рой станционных дам —
Уж молчали они хотя бы! —
Всё шептался: «Шершеляфам»,
Что значит: «Нашел бы бабу».
Но с точностью прицельной
Заявила мадам Катерина:
«В этом пикантном деле —
Конкретная юбка причиной,
Да пребудет дело в секрете,
Но мне-то всё ясно, как... вакса!»
«Мондье! Кого же приметил
Телеграфист Петя Плаксин?
Святые угодники Божьи!
Батюшки! Наважденье!
Кого полюбить-то он может?
Таню? Анисью? Женю?
Ольгу? Настасью? Авдотью?
Веру? Анюту? Наташу?
Начальникову ли дочку?
Или Семенову Машу?»
«Кого? — Буфетчицу-польку!
Свет клином! Чудо открыл!»
А Плаксин сидел за столиком
И тихо-тихо грустил...
4
На Унылой станции той же,
В Мордобойском уезде где-то
Техник Власий Фомич Запойкин
Превосходно играл на кларнете.
Тоска его ела страшная,
И когда было грустно очень, —
Брал кларнет, выдувая протяжно
«Последний нонешний денечек...»
Играл он разные песенки:
Задушевно — о дубе старом,
Порой — как-то дико и весело
Про Тулу, про самовары,
А у буфетчицы Ядзи
Сердце стучало украдкой,
И шептала, на техника глядя:
«Пан играет так сладко, так сладко...»
А техник-то крутит усики,
А техник-то польке подмигивает:
«Ей Богу-с, всё это — игрушки-с...
Вам в усладу-с, панна Ядвига...»
Обожаючи смотрит Ядзя,
Комплименты Фомич расточает,
А за морзянкою Плаксин
Всё вздыхает, вздыхает, вздыхает...
5
Над страной разыгралась метелица,
Полярным холодом веет,
Только звуки кларнета теплятся:
«Ох и жаль мне тебя, Расея...»
Снег по стеклам бьет, точно плетью,
Бьет по крыше дробью короткой,
Днем и ночью Ядвига в буфете
Разливает проезжим водку...
Ой мороз, мороз-забулдыга,
Пронимаешь до самых костей!
Петя Плаксин пишет Ядвиге
Письмецо о любви своей,
Обращается Петя к Ядзе,
Что при встрече толком невмочь
Объясниться, и пусть хотя бы
Прочитает его письмо:
«Я люблю Вас не первое лето,
А сколько лет — умолчу...
Только, милая, — тайну эту
Не поведайте Фомичу...»
Про нежность ей пишет Плаксин,
Про ночные любовные грезы,
А на телеграфные бланки
Ниспадают горючие слезы.
6
Есть в зданье вокзала оконце.
В нем увидишь: рельсы, вагоны,
Заиндевелое солнце
И деревце прокаженное,
Небо серое в облачных кляксах,
На рельсах инея проседь,
Пассажиров третьего класса, —
Всю промозглую русскую осень, —
И возьмет тебя грусть одинокая,
Грусть вокзальная да банальная, —
О, чужие глаза далекие,
О, чужие слова прощальные!
Сердце, сердце, любовью прожженное,
И глаза, смешные и плачущие,
Бестолковые ночи бессонные
Да любовные слезы горячие...
«Вы, пан Плаксин, помилуй Вас, Боже, —
Неудачник-телеграфист,
А вот Власий Фомич — художник,
Настоящий мужчина. Артист!»
...Перечитывая, Петя корчится:
«Да кому ж я нужен на свете!..»
Лишь мелькнуло в уме: «Всё же здỏрово
Играет Фомич на кларнете...»
7
На Уныло-Хандровской станции,
У кладбищенского забора,
На подгнившей доске деревянной
Процарапан крестишко черный, —
«Да пребудут в покое останки.
Неприкаян, но сердцем чист —
Сам помог себе — Унылой станции
Петр Плаксин, телеграфист».
1914 / 1962–15.06.2008
*
Эта стилизованно-русская «петрушечная» мистерия есть мистерия — если выразиться гегелевским языком — «несчастного сознания» галутного, точнее, славяно-еврейского интеллигента, его неразрешимой славяно-еврейской раздвоенности, его надрывной «двуликости». И Плаксин, и Запойкин — как бы два лика самого Тувима.
Первый — явный и предопределенный loser, «шлимазл», кукольный Петрушка (вдумаемся в именословие героя: Петр Плаксин — именно плачущий Петрушка). Своему «Петрушке» поэт не уделил почти что никаких атрибутов артистизма, — разве что горячечное письмо буфетчице Ядзе (см. строфы 3-6 пятой главки поэмы).
Второй — счастливо-несчастный обладатель Польской Музы. Ибо «белая маска на черном лице» (выражение негритянского мыслителя Франца Фанона) успешного обладателя Славянской Музы оборачивается многой печалью.
Собственно, такова одна из настойчивых тем всей последующей тувимовской лирики. В поэте живет и победительный эстет, «pierwszy w Polsce futurysta», и затравленный «żydek», «mojsza literacki».
...Кстати, о mojszach literackich.
Откуда «есть пошла» эта стигматизация поэта и его литературных соратников?
На протяжении 1924-1939 гг. Тувим руководил одним из лучших литературных польских изданий — двухнедельником «Wiadomości literackie». Недобрые острословы переиначивали название издания так: «Idą mojsze literackie» (если дать правильный смысловой перевод этой стигматизации в виде назывного предложения — «Парад литературных мойш»).
Кто же были эти «мойши» — да простится мне совковый жаргон! — «славянской и еврейской национальности», прямо или косвенно связанные с этим изданием? — Перечислю хотя бы часть имен в порядке кириллического алфавита: Тадеуш Бой-Желеньский, Владислав Броневский, Мария Домбровская, Ярослав Ивашкевич, Казимера Иллякович, Ян Лехонь, Мария Павликовская-Ясножевская, Антоний Слонимский, Леопольд Стафф, Анджей Струг, наконец, сам Юлиан Тувим...
Какая еще нация сподобилась собрать такое созвездие поэтов и литераторов вокруг одного издания за столь короткий исторический период, — всего-то пятнадцать лет?.. — Воистину, повезло, повезло «панской» Польше с такими «мойшами»!..
Для сравнения: Мандельштам, один из подлинных князей русской поэзии прошлого века долгие десятилетия носил в российских литературных кругах заглазную этикетку «жиденка»[31]...
*
Сама эта славяно-еврейская творческая драма, по существу, уже принадлежит истории былых поколений — от эпохи эмансипации позапрошлого века до Шоа, сталинщины и неосталинщины. Но она необратимо вошла в культурный опыт поколений нынешних, ибо каждый творческий человек так или иначе несет в себе элементы «несчастного сознания» маргинала.
Впрочем, проблема одиночества и социальной отчужденности поэта — одна из глубочайших тем в истории европейских и, в частности, славянских поэтических культур. Можно вспомнить в этой связи и о «негритянском» комплексе Пушкина[32]; можно вспомнить, что Мицкевич, потомок конвертитов-«франкистов», вменяет свой дар художнической импровизации и романтического видения польской истории еврею-корчмарю Янкелю; можно вспомнить полные экзистенциального отчаяния стихи Пейо Яворова[33] и Владислава Ходасевича или же коренных польских шляхтичей — Лехоня и Броневского. Многое в истории поэзии и поэтов можно вспомнить...
Так что дело не только в существующем или несуществующем еврейском background’е тех или иных больших поэтов, но, скорее, в некоторой глубинной отчужденности, в глубинном экзистенциальном одиночестве поэта как искателя универсальных смыслов среди «нормальной» публики. Ибо сама поэзия есть развитие этих смыслов через подвижно-историческую динамику языка, что и требует особого служения, особой, не всегда внятной окружающему мiру внутренней аскезы. И некоторой особой дистанции от окружающей среды. Если вспомнить пронзительные строки из «Поэмы конца» Марины Ивановны Цветаевой, —
В сем христианнейшем из мiров
Поэты — жиды...
*
Так или иначе, полускрытые, затененные смыслы юношеской поэмы Тувима связаны со смертельной трудностью овладения Славянской Музы ее молодым служителем, тем паче, что служитель этот иной раз и может быть (хотя и вовсе не обязательно!) заклеймен как «жиденок», «шлимазл», «мойша» или «шмендрик». Чужеродность, инаковость, ненормальность — лишь псевдонимы смертельно опасного служения поэта:
О, знал бы я, что так бывает...
(Борис Пастернак)
Во всяком случае, тувимово «петрушечное» действо — как и положено петрушечному действу — многозначно связано с глубинными мистериальными началами человеческого сознания и подсознания, имена которых (среди многих прочих) — Одиночество, Творчество и всегда ускользающая от рационального взора, да и сама подчас толком не ведающая своих путей[34] амбивалентная Вечная Женственность.
Антоний Слонимский (1895-1976)
Антоний Слонимский — поэт, писатель, активный либеральный общественный деятель. И одновременно — тонкий и проникновенный лирик.
Из дневника
Из коробки достали шуршащую скользкую пленку.
Потушили огни. На экране — журнал «Парамаунта»[35].
С мóста в реку прыжок. Труп китайца с Маньчжурского фронта.
Марш-парады. Маневры. Модели новейшего танка.
Чередуются кадры. Теперь на Аляску поедем.
Крайний Север. Повсюду культура видна.
Шансонетки танцуют с полярным медведем.
Мистер Жопсон[36] бежит по канату и прыгает вниз через бочки вина.
Воскресенье. Семья — в ку-клукс-кланьем наряде.
Моцион совершают. Пугают кого-то тряпьем.
А на зал — из глазниц неприязненно глядя —
пятилетний мальчонка грозит деревянным ружьем.
Жгут зерно. В океан молоко выливают потоками.
А из вод океана — подлодки железное рыло.
Доведется увидеть вам все эти кадры, потомки, —
Не забудьте о том, что меня, современника, тоже тошнило.
1932 / 1964
Скрипичный концерт
[37]В полунищей клетушке, в долине карпатской,
там, где запахом трав опоен горный воздух,
то едва причитает, то бьется в припадке
итальянская скрипка в руках виртуоза.
То глубóко вздыхая, то звонко и быстро
рассыпаясь и звук унося в отдаленье, —
плачет мертвое дерево в пальцах артиста,
как не плакало прежде под бурей весенней.
Ветер горный, холодный, и эха раскаты...
Я лечу, — а на сердце творится такое...
Мой маэстро! Чем жил, что сгубил я когда-то —
ты вспугнул на минуту дрожащей рукою.
1932? / 1963
Владислав Броневский (1897-1962)

Владислав Броневский — при всех его крайне левых общественных убеждениях, при всей содержательной новизне его стихов — исторически оказался едва ли не последним представителем польской шляхетской романтической поэзии. И в то же время муза Броневского испытала на себе сильнейшее влияние словесности российской — поэзии (Блок, Маяковский, Есенин[38], Пастернак) и прозы (Броневский — переводчик Достоевского). Данью русских поэтов Броневскому стало недавнее монументальное издание переводов его произведений, в которое вошли и 22 моих перевода[39].
Лично для меня Броневский оказался одним из центральных поэтов моей жизни. Ибо муза Броневского сочетает в себе глубину погружения в поэтическую традицию с ошеломляющей новизной современности.
Перун
В небе — хриплые трубы,
ветры — равнину косят,
рвутся под ветром грубым
черные стяги сосен,
пляшут отблески лунные,
топот в заоблачных кручах, —
не колесница ль Перуна
носится ночью по тучам?..
Заоблачная погоня
напролом всё мчится и мчится,
четыре ветра — как кони,
и стучит-гремит колесница...
С колесницы быстрой твоей,
словно змеи, рвутся огни!
Эту ярость живых огней
гробовым плащом осени,
гробовым дождем оберни!
1924 / 1961
Смерть
Тихий, опухший и сивый — день за окном, точно хворый.
Тихо в больнице. Ступают сквозь глубину коридора
сутки, часы и минуты. Серость. И тишь. И кровати.
Тучи — как будто больные в тесной небесной палате.
Корчатся серые пальцы. Мучиться, видно, недолго.
Вянут на окнах герани. Листья пропахли карболкой.
Двери — как будто повисли — в воздухе, сонном и блеклом.
Мухи — последние мысли — тихо стучатся о стекла.
Кто там стоит за дверями? — Стало покойно и страшно.
Тихо крадется к постели — смерть... С нею врач и монашка.
1924 / 1962
Ноябри
Жизнь идет.
Я срываюсь и падаю.
А в груди —
словно рвется ветер.
Ноябри,
ноябри-листопады
тянут черными пальцами ветви.
Прель и шелест,
этот запах пьяный
отравили сердце волненьем.
Я дышу осенним туманом,
существую
ветром осенним
и слоняюсь
по городу старому,
по осенним
черным проулкам,
и затягивают тротуары
в полумглу,
сырую и гулкую.
С губ словả
Срываются пламенем,
весь дрожу,
как будто в горячке, —
то свисают руки,
как каменные,
то знобит...
От себя не спрячешься.
Нет исхода, нет исхода, нет исхода...
Переулки глубже, глубже и длинней...
Я, как ветер, шевелю ночную воду,
обрываю листы ветвей...
Эта мгла
глаза проела болью,
рвется сердце
от тоски осенней,
голубым огнем алкоголя
полыхает во мне мученье...
Видно,
нужно мучиться вечно
и кружить по проулкам без меры,
чтоб ночами,
толпой бесконечной,
гнались за тобой
твои химеры,
видно,
нужно срываться и падать,
чтобы грудь раздирало ветром, —
в черных пальцах
вечную радость
давят черные
голые ветви.
Круженье, круженье, круженье...
Или всё это бред, всё зря?
Это просто — листья осенние.
Это — пахнет земля.
1925 / 1962
Шпион
Взгляните во тьму: шпион крадется под окнами,
маячит, как бред, уж часа четыре — иль пять, —
вдруг возникнет в дверях, — за ним полиция в сапожищах кованых:
— Руки вверх! Ни с места! Обыщите! Молчать!
Тебе примелькается эта рожа, не бритая с неделю, —
серая, мутная, словно окна грошовой обжорки, —
взгляд пустой исподлобья, ухмылка злодея,
крючковатые пальцы... И запах из пасти прогорклый.
Был он свой при царе, и при немцах, и в органах польских, —
только слово скажи — он уж вертится, он уж на страже,
он нашепчет кому-то из наших товарищей: «Завтра — на Вольской»...
Только завтра — он сам на него грязным пальцем укажет,
а потом добросовестно-тупо исхлещет по морде,
так что выплюнешь зубы да весь тротуар закровавишь, —
а за подвиги — отпуск, деньжата и орден.
И — гуляй вольной птицей по Вольной Варшаве!
Ввечеру будет водку хлестать в ресторане,
будет модные фоксы гнусавить, оценит все сальные шутки...
Чтỏ иудины деньги? — Дешевка! Он скупиться не станет
и по-царски оплатит жратву и покорную плоть проститутки.
...Он повсюду. Он вечен. Он — ухо стены. Замолчи!
Он чистейшие речи готов оплевать матерщиною.
Это он у поэта похитил наброски в ночи,
это он доказал, что в ночи ваши слезы — фальшивые.
Всюду он. Бесполезно метаться, стенать и кричать,
и горстями разбрасывать сердце живое задаром:
всюду сети и сетки. Он сумеет кусочки собрать
и, как бомбу опасную, тут же доставит жандармам.
Взгляните в окно: идет октябрь, промозглый и блеклый,
как пальто у шпиона, как рожа без глаз...
Застилают нам взор эти серые, мутные стекла.
Наша краткая юность — фальшивый товарищ — уходит от нас.
1925 / декабрь 1962, 01.11.08
Поэзия
Опускаясь на землю, как майская ночь
или пьяная кипень жасмина, —
нашепчи, подскажи, расскажи, напророчь,
наколдуй — всё едино, едино.
Пролетишь надо мною, листвой шелестя, —
тихой ночью, бессонною ночью, —
обласкаешь нам лица накрапом дождя,
сны и тайны объявишь воочию... —
Но ведь этого мало! Так мало! Скажи —
для чего этот лепет бессилья?
Как нам выжить, пройдя через все рубежи,
без дыханья, без крови, без крыльев?
Но становится старше душа, и горит,
и красивые речи — обманны...
И тогда уже надобны — маршевый ритм
и взволнованный бой барабана.
О поэзия! Чтобы тебя мы нашли,
чтобы стала ты хлебом насущным,
чтоб увидеть пределы счастливой земли,
чтоб нам сделаться крепче и лучше, —
мы к холодным весталкам не свернем на поклон,
не сдадим себя ложным святыням.
Стань же знаменем средь боевых колонн
или факелом неугасимым!
Научи простым и тихим словам,
осенú нас такой любовью,
чтобы вновь земля засверкала нам
в преломлениях счастья — и боли!
Если ж арфы прикажешь нам взять с собой
для заклятья громов и молний, —
наша каждая жила прозвенит тетивой —
лишь одно только слово молви...
Сквозь преграды войдем во владенья твои —
песней чуткою и тревожной,
будут строфы сильней шипенья змеи,
и я верю: любовь — переможет.
А уж если кто и сорвался в прах, —
смерть поэтов всегда беззаконна!
И полощемся мы на вечных ветрах,
как простреленные знамена.
1926 / 09.01.2010
Рембо
[40]«О нет, не петь для тех, что праздно суетятся,
и не идти туда, где корчатся уроды, —
я песнею моей взлечу легко, как ястреб,
взлечу задумчивый, угрюмый и свободный,
вам не поймать ее погаными руками —
она взмывает ввысь, легко парит, но вдруг
с лазурной высоты срывается, как камень,
и кружится земля, и замирает дух...» —
так шепчешь ты, поэт, шагая в час рассвета
бульварами. Повис туман на гребнях крыш.
И чудится тебе, что Сена — это Лета
и скорбною ладьей плывет по ней Париж.
Послушай, подожди! Людской крови багрянец
растоптан сапогом ликующей толпы,
над трупами бойцов — тысячезадый танец
блюющих, блеющих, рыгающе-тупых,
ты только приглядись — о сутенеров роты! —
вскипает в сердце злость, пронзает сердце боль —
ты слышишь голоса сквозь пьяную икоту:
«Поэт, поди сюда и петь для нас изволь!»
Бесовский карнавал душа едва ли стерпит,
ты в корчах разглядел удушья торжество, —
но этот же Париж гляделся в очи смерти,
когда гуляла смерть по улицам его.
В тени каштанов вырастают привиденья,
в весеннем воздухе еще дымится кровь,
а в сердце — тайный страх и пьяное круженье, —
чтỏ жеребячий смех иль жалобы стихов?..
Быть может, ястребок, ты отдал сердце мiру,
в болото слез людских швырнув его с небес, —
и что ж? Вокруг тебя роятся лишь вампиры,
а те, кто нынче жив, — гниют на Пер Лашез?..
...И не останешься ты в этой лодке мерзкой,
так тошно в скопище галдящих упырей!..
Прощанья — ни к чему. Уйди от них скорей,
такой задумчивый и равнодушно-дерзкий.
Уйди от них скорей. Ты — сын иных созвездий,
А мы — сыны земли. Куда податься нам?
В изодранной суме возьми лишь гнев да песни,
А молодость свою — раздай морским ветрам.
Изгнанье — навсегда. А мразь на этом свете
одним безмолвием презренья удостой...
Но, мальчик мой, скажи, кảк маленькой планете
вместить всего тебя, с раздумьем и тоской?
1926 / декабрь 1962, 01.11.2008
Звезды
Под этими звездами
трудно несть
молчанье, молчанье, молчанье...
Но
на помощь
прорвутся песнь
и —
немужское рыданье.
Кảк безбрежен свет,
небо — звезд водоем. —
Муза,
нам прỏбило
тридцать лет.
Скажи,
куда мы плывем?
1927 / 1963
Борис Пастернак
Мчатся тучи под ветром
в черном ливневом шуме,
ртуть растет в термомéтре,
нарастает безумье.
Месяц синий и мертвый,
как стеклянный осколок,
кровь стучит по аорте, —
в сердце — словно бы сполох, —
и растет без предела
строк и образов груз, —
по разбитому телу
мчит взбесившийся пульс.
В этой ливневой жути —
плоти женщин, кометы...
Окна настежь — и ртутью
Разнесён термомéтр!
Из надрезанной жилы
льется стих невесомый.
Пол-шестого пробило.
Хватит. Надобно брому...
Кто по комнате рыщет?
Кто стоит у окна?
Листья пахнут кладбищем.
Осень. Вечность — темна.
Трудно тьму эту вынести.
В мiр сырой и безгласный
ты стихи свои выплесни,
как из рюмки — лекарство.
1929 / 1963
14 апреля
Памяти Владимира Маяковского
За зыбкой чертою счастья
караулят усталость и гибель.
Всегда можно крикнуть: баста!
И смерть приходит, как выбор.
Но были, будут и есть
голоса катакомб, которые
возносят над мiром песнь —
превыше дымов крематория.
Радий — глубинное слово —
прожигает людскую грудь.
Павшим в дороге — слава.
Мы продолжаем путь.
1930 / 1963
Луна улицы Павьей
Золотая луна над улицей Павьей —
словно хала. Но всё это — прибаутки.
И был мальчонка-портной в Варшаве.
И было имя ему — Исаак Гуткинд.
Луна над Варшавой — прочих лун не краше.
Утро каждое — ранним рано —
открывал мастерскую Исааков папаша,
звон трамвайный будил Муранов.
Мастерская выходит во дворик.
Обстановка, конечно, бедная:
грязь, вонища, торгуются, спорят...
Ицек рос, никому не ведомый.
Хвост селедочный да ломтик хлеба, —
разносолов иных не прибавишь.
И глядел на трапезу с небе,
проплывая над улицей Павьей
лунный диск... Так сурово устроен свет,
так не щедро отмерены детства пределы:
уж как прỏбило малому десять лет, —
началось портновское дело.
Шил ребенок, да размышлял втихомолку:
«Ведь луна — золотая пуговица, —
мне б найти такую иголку...» —
А отец визжал: «Работай, курица!»
Как заплаты на лапсердаке —
год за годом и день за днем...
Отец — как портной-бедолага всякий —
взял да и помер за шитьем...
В жизни случаются злые шутки,
да и как понять сюрпризы бытия?
А ты, забитый подросток Гуткинд,
о чем ты ведал, кроме шитья?
Детских недоумений россыпь,
нищета, унижений тайна... —
И отгадки на все вопросы
он искал в брошюрках случайных.
С голытьбой не напрасно общенье:
на Налевках, на Павьей, на Гусьей
он усвоил такие реченья:
«Быть людьми. Устоять. Не струсить».
А в брошюрках — словечки разные,
мельком слышанные когда-то,
про порядки про буржуазные,
про единство пролетариата,
и шептали портные старшие
о былых революциях грозных,
о премудром учителе Марксе,
о Ленине, Карле и Розе, —
этой долгой повести главы,
эпизоды жаркие, скорбные...
В те поры профсоюзам Варшавы
навязали высокие нормы...
С транспарантом тяжелым Гуткинд
шел с другими рабочими рядом.
Кулаком рассекли ему ухо,
и — живым манером — в тюрягу.
...Сидит Ицек четвертый год:
у судей коротка расправа, —
на решетки свет золотистый льет
луна, что с улицы Павьей.
Луна, лунища, посвети сильней
над Дикой, над Павьей, над Кармелитской!
Да жив ли он в лапах этих людей?
И что они делают с Ицеком?..
Льется жизнь печально и странно...
Только, граждане, что за шутки?
Всколыхнулся опять Муранов,
В самом центре событий — Гуткинд...
Post scriptum
...Как-то мне на днях передали листки:
почерк, вроде, знаком — я развел руками, —
«Вы, товарищ Броневский, напишите стихи —
про нашу про двадцать первую камеру...»
1932 / 1961 — 19.12.2008
Забота и песнь
Может быть, ничего и не было? —
Год пройдет, или два, или икс, —
мои мысли — черные лебеди —
уплывут вниз по Висле — в Стикс.
Кто бы сердце поставил заново? —
Я свое расшвырял для других:
не по формуле и не заумью
возводил я и жизнь, и стих.
От заботы — и в горле горько.
Я распелся бы во всю мочь, —
только, вот, — перехвачено горло,
только хрипом хриплю сквозь ночь.
Но и в хрипе — сила поэта.
Мы еще — свое пропоем.
Не поддамся этому свету.
Не возьмет он меня живьем!
1932 / 31.12.2009
Мавзолей Тамерлана
[41]Вроде бы, люди добры и спокойны,
вроде бы, им ненавистны разом
беснования, казни и войны.
В людях — вроде бы — творческий разум...
Тихо стою средь резьбы и глазури.
Кáк я попал через дальние страны,
тюрьмы, скитанья да всякие бури
в этот последний дворец Тамерлана?
...Мчались по Персии конные орды,
мечеть за мечетью, за домом дом —
рушили, рушили, рушили к черту —
так же, как нынче: огнем и мечом!
Силы монгольской всё больше и больше —
рвы или стены — всё нипочем!
Русь и Багдад, Украину и Польшу —
так же, как нынче: огнем и мечом!
Смерть оборвет победные громы.
В память об огненной круговерти —
возведут мертвецу хоромы.
Жалобы жизни — спишутся смертью.
Гибнут народы, гибнут поверья,
гибнут империи и твердыни,
гибнут завоеватели-звери
вместе с воинствами своими.
Как всё закручено в человеке!
Немощна память, немощно слово!
В землю уходят кровавые реки,
кости становятся зеленью новой.
Хочется верить:
добры и спокойны, —
люди придут на пахоту жизни,
чтобы отбросить казни и войны.
Чтобы поверить себе...
И Отчизне.
1943 / 06.07.2008
Роза Сарона
[42]Белые контуры Ерусалима.
Ветер ливни пронес,
и серебрятся, едва различимы,
капельки в чашках роз.
В этом краю, в былое влюбленном,
столько библейских слов...
Что же такое «Роза Сарона»? —
Отзвук забытых снов?
Роза Сарона... Пыль Иудеи...
Боль порушенных гнезд...
Или — в ночи, в плену у халдеев —
сплетение южных звезд?
Или же — в тайнах древних мелодий
есть и ответ иной:
канула роза в темный колодец,
был нестерпимый зной,
тонкие, крепкие девичьи пальцы
подняли ввысь кувшин,
к девушке грустно склонялись пальмы,
кривые стволы маслин.
Бедра плывут. Жара истомила.
Тихо браслет звенит.
В мареве жарком — отблески Нила,
дальняя синь пирамид.
Кедры Ливана, горы Синая...
Много искал я роз.
Только вот Розы Сарона — не знаю.
Не отыскал. Не принес.
Белые розы в красных вазонах,
быстрые взоры в окне...
Есть ли взаправду Роза Сарона?
Или — приснилась мне?
1943 / 26.12.2005
«Повести из Освенцима»
[43]Прочел я записки Марии, —
рыдать бы да выть без конца.
Тáк ведь не пишут живые.
Это — рассказ мертвеца,
случайно ожившего... Рядом
с тобою, в смертной истоме,
в Освенциме, в гуще ада,
где вместо имени — номер,
я не был... Но вижу: узницы, как парадом,
перед эсесовцем с мордой песьей, —
раздеты-разуты, под снегопадом,
под дождем, на жаре, на морозе...
Звала меня... В злые пространства брошена,
во власти взбесившихся зверей —
моя Мария. Одна-одинешенька.
В аду. Вдали от любви моей.
1949 / 27.12.2008
Соловей
Свищет всю ночь
соловей надо мною,
и каждая трель — внове.
Злодей-соловей,
дай минуту покоя,
дай себя высказать в слове...
Трелью твоею
сердце омыто,
тихо лежу ничком, —
только вот смерть —
мой страж ненасытный —
водит по сердцу смычком.
Умрет соловей.
Остановится сердце
и кровоток горячий.
Майская ночь.
Соловьиное скерцо.
Счет — навеки оплачен.
1949 / 21.12.2008
Сумерки
Что ж это в памяти так засело?
Какой незапамятный год?
Время сумерек, бедных и серых:
комнатушка, камин, комод...
Тик-так, тик-так... — Шаги подступающей ночи.
И голос — любимый самый:
— Ты не поужинал, мой сыночек?
— Нет, не поужинал, мама...
Может быть, мне в чем-то откажут,
или за что-то накажут...
Часы и годы бегут...
Но вернуть бы от прежнего часа,
от этого серого часа —
хотя бы тридцать минут.
1951 / 15.12.2008
I oczy wilgotne...
В глазах моих — сырость,
сердце — изнылось,
что мне до дальних далей?
Сбежал бы, тоскуя,
в чащу лесную
да помер бы от печали.
1954 / Звенигород, лето 1987
*
Выйду да гляну, как поле вспахано,
ни зимы не страшусь, ни ветров осенних.
И нету во мне никакого страха.
Ты ведь знаешь: я — не Есенин.
Страхи налево, страхи направо, —
Но, — промозглый страх не приемля, —
он учинил над собою расправу
и удалился в сырую землю.
Милая, я не боюсь ничего на свете,
твоей лишь скорой печалью маюсь...
А над полями — всё свищет ветер.
А над кровлею — белый аист.
1955 / 2008
I zamyślić się nad Szopenem...
Пробудить в себе звуки Шопена
или Норвида с «Памятью Бема»,
и на миг — если только возможно —
повстречаться с твоим Утешителем Скорым —
Адамовым Водным Простором,
Чтоб на вỏды пролить серебристые
твои слезы — Лучистые, Чистые...[44]
Ты об этом мечтаешь, художник?
1957 / 27.11.2008
Тишь
— Кто ты, скажи, отчего молчишь?
— Тишь.
— Как тебя звать, повтори, не расслышу!
— Тишью.
— Не о тебе ли
мертвые ветки весною хрустят по дубравам?
Но о тебе ли
щелкают соловьи, когда подымаются травы?..
— Смолкни. Гордостью не греши.
Будешь во мне.
В Тиши.
1957 / 1974
Coraz krỏtsze wiersze...
Стихи от старости тают,
сердце — в остатке дней.
Ветер, сила сквозная,
юный мой ветер, — повей!
Вспыхнуть последней искрой,
словно Вселенной в дар!
Ветер, мой ветер быстрый,
юности тайный жар!
Строки живые светят
в череде прогорающих дней, —
но ты, мой ветер, — о ветер! —
как прежде в юности, — вей!
1957 / 27.11.2008
Поле
За ближними тополями
скользит мой взор полями, полями,
а на меже — могучий
конь... Вот он стал на дыбы...
Тополя да тучи,
а дальше — ольховники и дубы.
И далее — поле...
И баба в клетчатой блузе синей...
Ольховники вновь сквозят...
А далее —
на восход, а, может быть, на закат —
да по раскисшей глине —
бредут колонны польских солдат,
которых нынче нет и в помине...
1957 / 28.12.2008
Pisać o locie motyla?..
Писать о полете бабочки в сердце лета? —
Давно воспето.
Или о времени об утраченном? —
Слишком уж дорого время это оплачено.
О былых революциях, об их размахе? —
Только нынче о них балабонит всякий.
Или писать о юности невозвратной? —
Для меня эта тема исчерпана. Надеюсь, понятно?
О себе, о себе, о себе, любимом? —
Хватит, граждане. Проехали мимо...
И всё же —
на сердце плющом повисли
иных поэтов звуки и мысли.
Стих мой бедный, стих мой суровый, —
но
волнами Вислы плещется слово!
Волнами Вислы — да смоется пустословье!
Висла-артерия — бьется моею кровью,
чтобы
над всякой низостью стародавней
выросло племя поэтов,
омытых правдой!
Барабанщик партийный, —
из нынешней старости скушной —
не прошу я пощады
у будущих,
прекраснодушных, —
был я верен себе.
И хотел бы,
чтоб ритмы мои,
мои звуки и мысли —
восшумели для них,
как шумят колосья над Вислой.
<1961?> / 16.12.2008
Ян Лехонь (1899-1956)
Ян Лехонь (псевдоним Лешка Серафиновича) — носитель как бы «блоковской» линии в польской поэзии: сочетание отточенной формы и надрывного содержания. Не случайно он был одним из лучших польских переводчиков поэзии Блока.
Человек, время, история — под Божьим судом. Такова одна из важнейших тем поэзии Лехоня.
Поэт-изгнанник покончил с собой, бросившись из окна нью-йоркского небоскреба.
Chorału Bacha słyszę dźwięki...
Хоралов Баха слышу звуки.
Такое чувство — вся земля
Сама слетается мне в руки:
Ее осенние поля,
И туч ее набухших серость,
И уносимый ветром дым...
Как много нам понять хотелось,
Ощупать и испить — самим!
А на ветру звенит шиповник,
От холодов увядший цвет, —
Настанет суд за путь греховный,
И от него — укрытья нет.
Ранее 1954? / 1961
Страшный суд
Ирене Уайли посвящается
Прозорливое знанье о том, что проявится завтра,
Добродетели, вéдомые везде,
Наша гордая воля, наша монументальная правда, —
Я боюсь, — не зачтутся на Страшном Суде.
И повыползет вся наша злоба, как нежить,
Но проявится вдруг в ослепительной силе
От людей утаенная тихая нежность —
Та, которую мы почему-то под спудом носили.
Если перечни наших заслуг — бесполезны,
И шумит, и немотствует жизнь, и ее не дано побороть, —
Чтó останется? — Разве что вспышки да бездны, —
Их объемлет любовью Единый Господь.
Ранее 1954? / 31.10.2011
Влодзимеж Слободник (1900-1991)
Слободник — тонкий и по-польски ироничный лирик. По словам русско-польского поэта и филолога Льва Николаевича (Леона) Гомолицкого, в его «простых, утонченных до последней скудости словесных строчках — истинный человеческий трагизм, большая тема»[45].
Липовая ложка
Гордо стояла меж лесом и полем,
Соки земли по корням текли,
Но — перегрызли древесную волю
Злые зубья железной пилы.
Липовой ложке в хозяйстве нашем
Жребий от Бога — самый простой:
Пурпур борща, серебристая каша —
Скромная служба потребе людской.
А ночью, рядом с огрызками хлеба,
Липовой ложке видится сон:
Плещется в синей кастрюльке неба
Утренних туч золотой бульон.
1929 / 07.02.2012
Глухота Бетховена
Недоступное слуху, —
Как Ангелы стонут от боли,
Как путник одинокий падает наземь,
Как ропщет море и плачут камни, —
И всё это он расслышать сумел
Своей глухотою...
1957 / 08.02.2012
Ежи Бронислав Браун (1901-1975)
Поэт и религиозный философ, участник антигитлеровского Сопротивления. Подвергался репрессиям в первые годы коммунистического правления в Польше. Реабилитирован в 1956 г. Последний десяток своих лет провел в Риме, активно участвуя в жизни Церкви и европейского философского сообщества.
Природа
(отрывки)
Странники — мы сами,
и небеса над нами,
и обращается земля
под нашими ногами...
............................
Времен круговороту
свои дары приносим:
яблочною падалицей,
золотою падалицей —
мы впадаем в осень...
1960? / 26.07.2011, дер. Леоново (Тверская обл.)
Мечислав Яструн (1903-1983)
Мечислав Яструн — поэт, эссеист, культурфилософ. Его муза — резкая, как бы угловатая, отзывчивая ко всей боли социальности и истории. Поэзия Яструна насыщена философскими и литературными ассоциациями — библейскими, античными, средневековыми.
Ярославна
Тот край не за семью горами.
Обетованная земля
еще раскроется пред нами.
Пора — пришла.
Огонь и хлеб, и всю природу
недаром человек обрел.
Он зачерпнет ладонью воду
из синих волн.
Кому-то не удастся выжить.
Пощады жди или не жди, —
назавтра люди встанут выше
былой вражды... —
Так Ярославна на Путивле,
рыдая, заклинает степь.
Шум дальних ратей, шум ковыльный, —
всё ближе, ближе шум всесильный...
Огонь и хлеб...
1944 / 26.02.1988
Исход из тюрьмы
Просидел пять лет в ожидании смерти.
А в это время
Кружилось солнце,
Проносились звезды,
И алкоголь разливался
В густом зловонии жилплощадей.
И песнопенья репродукторов,
Выдавливая рамы
На улицы текли.
Материализм, справедливость, —
говорили одни.
Духовник, на исповеди, —
говорили другие.
Бляди, кино, —
говорили третьи.
А в это время
Будили его среди ночи,
Слепили рефлектором,
Обливали водой,
Выламывали пальцы, —
И тело его
Стало легким и прозрачным,
Таким прозрачным,
Что в нём засветилась душа,
Маленькая,
Словно зародыш.
Но однажды
Распахнулись двери,
И в столпе, воздушном и дымном,
Предстал ему страж незнакомый.
Он разглядел
Жены своей губы
И глаза сына.
(Оба умерли, покуда сидел).
И услышал ревущие трубы.
И Ангелов увидел Содома.
1956 / 1966
Константы Ильдефонс Галчиньский (1905-1953)
Константы Ильдефонс Галчиньский — поэт par excellence. Певучие, элегические темы чаще всего сопряжены у него с темами ироническими и нередко — с самоироническими. Тонкое сочетание поэтического восторга с незлобивой иронией — одно из «таинств» поэзии Галчиньского. И не случайно образ изумрудного перстня из его стихотворения «Снова осень» как некоего волшебного примирителя осени и весны, тоски и надежды, смерти и жизни скрепил собою всю нашу книгу.
Под старой вишней...
Трансатлантические пилоты
спят в лунно-синей мгле,
в МИДовском кресле, устав от работы,
почил референт Молле,
гроза любовников, муравейник,
притаился в тени...
Тихо у стойки в доме питейном, —
дядюшка, друг, усни!
Уснем, родимый, под старой вишней,
спи сладко — лишь бы
беды не вышло.
Уснули собачки и блошек стаи,
тучкой накрылась луна,
поддался даже бдительный аист
гипнозу летнего сна,
на лавке дышит котенок мерно,
свернулись на ночь цветы,
уснула тетя, старая стерва,
дядя, усни и ты!
Уснем, родимый, под старой вишней,
спи сладко — лишь бы
беды не вышло.
В гардеробе — мундир привычный,
премьер — в пижаму одет,
спят Геббельс, Геринг, дрозды, синички
и целый белый свет,
уснула в кухне мисочка с кашкой, —
тише, дверь, не скрипи...
Дяденька, будь, как Божия пташка:
усищи в кулак — и спи!
Уснем, родимый, под старой вишней,
спи сладко — лишь бы
беды не вышло.
1935 / 1964
Снова осень
Осень подошла с дождями нудными,
скуку и тоску неся с собой...
Так надень же перстень изумрудный:
он взыграет зеленью живой.
Казнь тепла последнего — свершайся.
Кровью лес обрызган докрасна, —
но едва мерцает в тонких пальцах
весточка, что в мiре есть весна.
1937 / 03.07.1986
Св. Фаустина Ковальская (1905-1938)
Св. Фаустина — одна из великих польских святых ХХ столетия, молитвенница Божию Милосердию за всю Вселенную, за живых и за отошедших, включая узников чистилища и ада. Беатифицирована в 1993 г., канонизирована — в 2000.
Столь любимый польским народом, а вслед за ним — и за пределами Польши, образ Спасителя с потоками Крови и Воды из Его Сердца был явлен через Св. Фаустину.
День канонизации сестры Фаустины, пришедшийся на Вторую неделю по Пасхе, был объявлен Папой Иоанном Павлом II праздником Милосердия Божия[46].
Медитация
Сколь бесконечно Милосердье Божье!
По праву кто тебя восславить может?
Ты — Божья суть, Ты — вечное Сиянье,
Единое для смертных упованье!
? / 01.07.1985, Звенигород (Боголюбской иконы Божией матери)
Ян Твардовский (1915-2006)
Поэт, философ, богослов, до конца жизни трудившийся как практикующий священник. Мастер искреннего, подчас ироничного, лапидарного и отточенного польского верлибра.
Jesze nie...
Ежели ты, мил-друг,
не научился быть наедине с собою,
ежели ты
хватаешься за память, как за расшатанные перила,
ежели роешься в побитых молью своих воспоминаньях,
ежели ты, отошедшему не давая покоя,
пытаешься выволочь его за пуговицу с того света,
ежели бросаешься на шею первой попавшейся кукле[47],
ежели, словно козу,
пытаешься доить чужое сердце,
ежели ты
раздуваешься перед людьми тромбоном,
ежели ты
выстукиваешь, словно копытами, зернами розария твоего, —
так уж и быть:
по предмету «религиоведение»
натяну тебе с минусом тройку.
1966 / 01.04.2011
Он
Тень какая-то
зависла под окном
а надо мной
бесприютные тучи
сделаю вид
что нет меня дома
а он всё стучится
а я не отворяю...
и мысленно отвечаю:
— Поздно уже. И темно[48].
Спрашиваю наконец:
— Да кто ты такой?
— Твой Бог
с любовью Моей неразделенной
1991 / 19.09.2011
Кароль Войтыла / Св. Папа Иоанн Павел II (1920-2005)
Таинство Пасхальное
К поэтике Кароля Войтылы:
введение от переводчика
Предложенный читателю перевод стихотворного цикла Кароля Войтылы (будущего Папы Иоанна Павла II) требует некоторых предварительных пояснений. Тем паче, что цикл этот, написанный в 1975 г., представляется мне одним из вершинных в его поэтическом творчестве[49].
1.
Непривычностью своей проблематики и поэтики этот цикл может представить некоторую трудность для нынешнего российского читателя.
Трудность содержательная связана с глубокой традиционностью и — вместе с тем — с ошеломляющей новизной поэтического подхода Кароля Войтылы к центральному Таинству христианства — к Таинству Пасхи.
Для того, чтобы приблизиться к основам понятийного строя этого цикла, я позволил бы себе предложить читателю короткую выписку из своей книжки «Православные праздники», — как раз из того раздела, который и посвящен празднованию Светлого Воскресения Господня[50]:
«Смысловая глубина Пасхального праздника огромна. Исторически, Пасха христианская прорастает из Пасхи иудейской — праздника Исхода древнееврейского народа из рабства у египетских фараонов. Само слово Пасха — арамейский вариант еврейского отглагольного существительного „пéсах“ (глагол „пасах“ многозначен: проходить, переноситься, колебать, щадить). По чудесному совпадению арамейское существительное „пасха“ оказалась созвучным греческому глаголу „paschó“ (страдать, претерпевать).
На Тайной Вечере, в канун Своих Страстей и Воскресения, Христос исполнил с учениками чин иудейской Пасхи — праздника избавления от зла, праздника пощады обреченных, — наполнив старое народное торжество новым смыслом. Чин пасхальной иудейской трапезы с преломлением Хлебов (мацот) и Чашею вина, со вкушением пасхального Агнца стал первой в истории и с тех пор вечно длящейся хроистианской Литургией, посвященной Крестной жертве и всерадостному Воскресению Спасителя. Древний праздник национального избавления от жестокого иноплеменного владычества пресуществляется в праздник всечеловеческого избавления от владычества греха и смерти, в праздник искупительной Божественной пощады человеческому естеству; древняя национальная символика перерастает в символику Тео-космическую».
Текст цикла Кароля Войтылы «Таинство Пасхальное (Mysterium Paschale)» обнаруживает глубину и богатство библейских знаний и библейских медитаций поэта: пессимистические темы тех разделов Книги Бытия, где речь идет о грехопадении, пессимистические темы тех разделов пророческих речений, Псалтири, Книги Иова и Экклезиаста, где речь идет о трагизме человеческих и вселенских судеб перед лицом греха и смерти, — как бы пресуществляются поэтом в темы торжества и радости о Воскресшем Мессии. В стихах цикла отчетливо ощущается знание поэтом западной и восточной патристики, проникновенное знание Страстнóго и Пасхального чина как в Католическом, так и в Православном богослужении.
Итак, за содержательной трудностью стихов — почти утерянная современным человеком глубина погружения в духовно-исторический опыт Христианской Церкви.
2.
Трудность же формальную может представить для отечественного читателя сама неразрывная связь поэтики Кароля Войтылы с его родной, польской поэтической традицией.
И здесь, во-первых, важно иметь в виду связь нашего поэта с традициями великой польской романтической (я бы даже сказал точнее: метафизической) поэзии позапрошлого века: прежде всего, с поэзией Адама Мицкевича и Циприана Камиля Норвида, но также и Юлиуша Словацкого. Это — изощренный (почти барочный) образный строй и неразрывная связь тем высокой печали, сердечной сокрушенности и — надежды. Надежды вопреки всей природной и исторической очевидности, надежды, питаемой сердечностью веры.
А, во-вторых, важно иметь в виду связь поэтики Войтылы с традицией польского свободного стиха (верлибра) второй половины прошлого столетия, ставшей неким художественным «антитезисом» многословию поэзии классической[51]. Можно вспомнить в этой связи имена таких не похожих друг на друга мастеров польского метафизического верлибра второй половины ХХ века, как поздний Леопольд Стафф[52], Мечислав Яструн, Тадеуш Ружевич, Зыгмунт Херберт, Юзеф Ольшевский и др.
Всем этим поэтам свойственны заведомый, я бы даже сказал — программный, лаконизм поэтического высказывания и изощренный язык недоговоренностей и многозначных метафор. Язык, особенно трудный для перевода.
К сожалению, искусство переводов современного польского верлибра (равно как и верлибров Запада и Востока) на русский язык пока еще встречает у нас много трудностей. Русский язык сроднился с виртуозным размерным и рифмованным стихом, и в этой области русская школа поэтического перевода достигла высот необычайных. А вот «ключ» русской просодии к иноземному верлибру почти что и не найден. Верлибры зачастую переводят, исходя из «арифметики» поэзии: слово к слову, образ к образу, значение к значению. Почти как прозу.
Однако приходится «делать» свободные стихи, еще исходя и из «алгебры» поэзии: как ритмически упорядоченный «порыв» русской речи[53], да к тому же и согласованный со сквозными и не всегда выговариваемыми смыслами (я называю их надтекстами) оригинала. Здесь важна не дисциплина рифм и размеров, как при переводах поэзии традиционной, но дисциплина смыслов подлинника плюс неписанная дисциплина русской просодии.
Еще одна трудность освоения поэтического наследия Кароля Войтылы — его особая, я бы сказал интимная, связь с традициями польского философствования и богословия ХХ столетия. А одна из сквозных тем польской мысли — пронизанность человеческого существования и мышления множеством пересекающихся жизненных и интеллектуальных потоков[54], или — по словам польского философа, математика и художника Леона Хвистека (1884-1944) — «множеством действительностей»[55]. Так что для того, чтобы сбыться, чтобы стать со-Бытием, человеческая личность призвана отыскать и выразить себя в этой конфликтной и всегда подвижной множественности своих предпосылок. По убеждению же нашего поэта, человек и человечество способны отыскать и выразить себя только во Христе Воскресшем.
3.
Таковы основные предпосылки моей переводческой работы над стихами Кароля Войтылы, Папы Иоанна Павла II, замечательного польского молитвенника, мыслителя и поэта. В этой работе я пытался исходить, по крайней мере, из двух следующих принципов:
— из принципа учащенной строфики как некоего (восходящего еще к Маяковскому) подобия нотного письма в поэзии, — строфики, обозначающей ритмы и интонации, перебои дыхания в паузах и цезурах, которые присущи именно поэтической русской речи;
— из принципа невозможности прямолинейного, дословного перевода (как это подчас случается у иных наших переводчиков польских верлибров): очень важно выдержать певучие ритмы русского свободного стиха[56], но и как-то «размягчить», «расковать» непривычную для российского читателя лапидарность современного польского метафорического письма.
Итак, —
Кароль ВОЙТЫЛА
Таинство Пасхальное
1.
Нас омывают, смывают потоки времен, —
многое множество потоков неудержимых.
Текучие силовые поля,
в которых меняешься сам.
И смиряешься
с уносящим этим теченьем,
ибо на уносящих водах его
возрастает окружающий мiр.
И осталось во мне самом
что-то от мудрости былых времен:
текут потоки,
уносят, смывают, —
изменяя самого тебя.
И знаешь наверняка:
поплывешь по теченью,
и во прах обратишься,
потому что
всё существованье твое
уносится к будущей смерти,
и сама вливается смерть
во внутренний твой поток.
И вызволит ли она
из текучих этих полей?
И возвратит ли смерть
и прошлое твое,
и будущее твое — в существованье едином?
2.
Таинство Пасхальное — Переход, Прохожденье.
Прохожденье — в обратном порядке:
не от жизни к смерти,
как учит опыт,
но —
Прохожденье от смерти к жизни.
И во всём этом — запись о смыслах таких глубоких,
что до сих пор
не прочитаны, не разгаданы до конца.
Но — ощутимы.
И Таинство это — не во вражде с существованием нашим,
ибо, скорее, — с нами враждует смерть...
Но если Кто-то
Тайнопись эту раскроет,
и расшифрует,
и на Самом Себе испытает,
совершив ПРОХОЖДЕНЬЕ, —
только тогда
мы обретаем следы Бытия
и только тогда
приобщаемся Тайне,
в которой обрел Себя Тот, Кто ушел...
И мы — Ему вослед,
проходя сквозь разломы смерти, —
в пространствах Таинства себя обретаем.
3.
И не сдержать это множество уходящих потоков,
и с каждой смертью людской
всё возрастающий мiр
входит в орбиты сознанья
лишь кружением атомов неповторимых...
Потому что
в самих уходящих потоках творенья
любой человек уходящий
записан ударами сердца,
потому что
любой человек уходящий,
который превыше всякого мiра,
любой человек уходящий,
этот мiр воздвигающий через себя и самим собою, —
изничтожается,
уходит во прах,
в темные первоосновы творенья...
И более нет человека,
а есть лишь Мiр,
прорастающий сквозь наши останки.
4.
И лишь из немногих ЕДИНЫЙ
совершил Свое Прохожденье —
наперекор убегающим всем потокам, —
потокам, всех и вся уносящим, —
наперекор самому движенью силового поля Бытия,
которым уносится каждый из нас:
одинокий,
непомерно огромный,
неповторимый,
заложенный в основу всего творенья.
Имя этому Прохожденью —
Таинство ПАСХИ.
Ради Пасхи спешили люди к вертепу, —
к пещере,
где место было только скотине;
ради Пасхи люди чужих земель
спешили за звездою далекой;
ради Пасхи спешили люди к пустому гробу, —
пустому, но исполненному света,
а потом подымались люди на гóру крутую,
превознесенную над потоком Кедрона,
и всё глядели оттуда на громоздящийся — весь в разломах — Город,
в котором ОН доведен был до смерти.
А ОН —
сдвинул Собою, собственной смертью —
не только что камень гробный, —
но и самое Землю,
а с нею —
и поток Кедронский,
и городские разломы,
и самый город...
И, вроде бы,
течет Кедрон в направлении прежнем,
вроде бы,
и потоки наших кровей опускаются к смерти...
Но в каждом из нас
ОН заложил начаток
такого рожденья и такой жизни,
что перерастают они смывающие нас потоки
и смерть нашу — перерастают.
И сей начаток —
в текучем, всесмывающем и всегда возрастающем мiре —
восстает против смерти.
Превыше всякого разуменья,
силою веры —
сей начаток
победил, опроверг, переспорил
уносящийся мiр.
1975, Kraków / Przekład: 06.01.2011, India, Thondvaddo
Юлия Хартвиг (1921-2009)
Переводчица и исследователь истории европейской и американской поэзии, биограф Гийома Аполлинера, и сама — оригинальный поэт. Рефлективность и лиризм ее поэзии подпитывается тонкой самоиронией.
Жалоба на Святых
Ох, уж эти мне Святые Господни,
задерганные Святые Господни!
Выручают они нас,
когда лишний кусок застревает в горле,
когда мы поминаем их пустынножительство и пощенье.
Задерганные нами, —
встают они до рассвета
и, постукивая зубами от холода ночного,
обнажают кровоточащие раны сердца
и улыбаются как-то странно.
Задерганные Святые Господни, —
они обезоруживают нас внезапной хваткой
в те самые моменты,
когда
рушатся наши надежды и притязанья,
и приходится им
зá волосы
выволакивать нас
из наших трясин.
Близкие по родству, —
но —
без тени всякого панибратства,
ведают Святые,
что притязания наши —
лишь капризы недоумков малолетних,
и всё же —
по великому снисхожденью —
отыскивают оброненные нами ключи или колечки.
А в остальном —
как ни дивиться стоическим их нравам,
их искусству
не отчаиваться
при виде нас, грешных?
1992 / 23.08.2012
Звезда мерцает, и свет всё ближе...
Вигилия, Noël, Christmas, Рождество Христово —
пленительные словá.
Грозный Бог становится Младенцем,
пробив к нам дорогу нежностью и состраданьем,
и благословляет нас младенческой ручонкой[57]
под пенье пастухов.
...И мы сами когда-то младенцами были.
С пальмами образки,
да с Богородицею на осляти,
да со святым Иосифом —
то было первое путешествие наше
в экзотические края,
то было первое причастие наше
судьбам изгнанников,
убегавших от деспотов кровавых.
И таким родным Вифлеем казался —
с пальмами и с польскими снегами,
с колядованием — радостным и сантиментальным немного,
когда путаются ритмы краковяка
с поступью величавой полонеза.
Вигилия! Полночь! — Она взрывается песнопеньями и огнями:
«Бог рождается — обессилены владыки земные,
Над земнородными — Господь небесный...»[58]
А на елке — пряники, яблоки, шары золотые[59],
на верхушке елки — Ангел-ходатай,
а под елкой — подарки.
В сенях поются колядки,
а на столе громоздятся постные яства...
И Облатка — знак тысячи благопожеланий.
И проступают в сиянье свечей
дивные лики, коих нет уж на свете:
мама, деды и бабки, отец со всею роднею.
Все наши вины они простили,
и снова хотят они быть с нами,
и все они красотой и торжеством сияют.
Есть место за столом и для случайного гостя,
а кто-то, может быть, и всплакнет тихонько,
но едва ли приметишь слезу
за волнами смеха...
Исчезают пирожные, льются компоты,
взрываются упаковки подарков,
и вся комната расшелестелась
лентами, шнурками, разноцветной бумагой...
И вспоминаются те, кто ушел от нас навсегда,
и опускается память всё глубже и глубже,
и всплывают иные картины:
ссыльные, преломляющие Облатку,
вигилии оккупаций,
вигилии по тюрягам,
в лагерях концентрационных,
вигилии интернированных и взятых под стражу,
вигилии изгнанья:
где-то в нищете, а где-то и побогаче...
И снег скрипит,
и рисует мороз на стеклах цветы и пальмы.
Час настаёт —
звезда мерцает, и свет всё ближе...
1992 / 26.03.2012
Артур Мендзыжецкий (1922-1996)
Поэт и переводчик. В юности прошел через советскую репрессивную машину, освободился от которой благодаря созданию в советских тылах армии генерала Андерса (параллель с судьбой Владислава Броневского). Участник исторической битвы с гитлеровцами при Монте Кассино.
Стихотворение «Мандельштам» (не случайно Мендзырецкий переводил стихи этого великого российского поэта) в годы коммунистического правления в Польше было под запретом и распространялось в списках.
Мандельштам
Бой колес и конвойных посвист...
Кто-то шепчет строки «Inferno»...
Страстотерпец российский — Осип...
Даль земная — немилосердна.
Только ветры да грай вороний,
только версты волчьей печали...
Эскимосская Персефона
молча дышит в стылые дали.
1970-е гг. / 08.06.1989
Збигнев Херберт (1924-1998)
Збигнев Херберт — один из самых прославленных польских поэтов второй половины прошлого века. Трагизм истории, трагизм пребывания поэта в истории, трагизм извращения мысли и столкновения мысли с людской пустотой, претенциозностью и нечувствием — едва ли не стержневая тема поэзии Херберта. Сама поэзия — как бы вечный «репортаж из осажденного города» (название одной из программных поэм Херберта). «Осада» же города мысли и поэзии не прекращается никогда. Человеческий дух — всегда в «осаде» на этой земле...
Надгробное слово Фортинбраса
И вот
остался наедине с тобой
поговорим же принц
как мужчина с мужчиной
хоть ты и лежишь на ступенях
и видишь не больше
дохлого муравья
Черное солнце с поломанными лучами
О руках твоих
и вспомнить-то не могу без улыбки
И теперь
эти вот самые руки
словно разоренные гнезда
разбросаны по ступеням
Безоружные бестолковые руки И это значит — конец
Руки лежат отдельно Шпага — отдельно И голова — отдельно
И ноги рыцаря в туфлях домашних
Похоронят тебя по-солдатски хоть и не был солдатом
Это — единственный ритуал в коем чуточку разбираюсь
Без свечей и без певчих...
Простимся пушечною пальбою
простимся шелестом плащей черных
простимся грохотом сапог о мостовую
и дробью дробью барабанной дробью
Противная по совести говоря картина —
но это —
необходимый демарш перед занятием трона —
я возьму сей город за горло
и легонько встряхну...
Что тебе оставалось кроме смерти! —
ты жил в хрустальном мiре понятий
отвергая людскую глину
вся твоя жизнь — это спазмы и порывы
вся твоя жизнь — это ловля фантомов
ты жил
кусая зубами — воздух
ты жил
разрывая руками — воздух
ты жил
ничего не умея делать как люди
даже как люди дышать не умея
Земля тебе пухом Гамлет —
ты сделал всё что тебе надлежало —
земля тебе пухом
Принц Гамлет
тебе принадлежит молчанье[60]
а всё остальное — мое
Ты выбрал легчайшую долю на свете
но чтó твои жесты геройской смерти
пред бдением вечным
когда
вознесенный на троне
сжимаешь яблоко леденящего металла
глядя в упор то на стрелок движенье
то на копошащийся в ногах муравейник
Прощай же принц дела меня ожидают:
проект канализационной сети
декреты о проститутках и бродягах
реорганизация тюремной системы
(ты ведь сам как-то очень верно изволил подметить
что Дания — это тюрьма)
Итак
дела меня ожидают
Но этой ночью
вспыхнет в небе звезда
имя которой — Гамлет
Трагедийных сюжетов на долю мою не осталось
Нет нам с тобою ни встреч ни прощаний
живем на разных архипелагах...
А слова слова слова — водица
Что они могут мой принц что могут?
1964 / 1965
Дамаст по прозвищу Прокруст говорит
Царство мое
располагалось в подвижных границах
между Афинами и Мегарой
оно включало в себя чащу ущелье и пропасть
и царствовал я без сенильного ареопага
и безо всяческих там регалий
с простой дубиной в руках
и тень моя была словно волчья
и одно только имя —
Дамаст —
трепет и страх нагоняло
я обходился без подданных
точнее — они у меня находились
и лишь на самое краткое время
не доживали они у меня до рассвета
но только клеветники
и фальсификаторы истории
обзывали меня убийцей
был я не просто царем
но ученым
реформатором социальным
и подлинной моей страстью
подлинной моей дисциплиной
были антропометрические занятья
я спроектировал ложе
соответствующее облику совершенного человека
я пытался приноровить
пойманных мною прохожих
к размерам сего совершенного ложа
разумеется
избежать было трудно
растяжения тел или обрубанья стоп
помирали мои пациенты
но
чем больше их помирало
тем больше я убеждался
что исследования мои — не напрасны
ибо
высокие цели прогресса
непременно
требуют жертв
как я мечтал уравнять высокое с низким!
унифицировать мечтал этот мерзкий людской разнобой
без устали трудясь над людским уравненьем
сгубил меня злодей по имени Тезей
вот уж кто доподлинно был убийца —
помните безвинную кровь Минотавра?
помните бабий шерстяной клубочек
что вывел его из лабиринта?
да кто он такой? —
прохиндей
способный лишь на интриги да подковырки
беспринципный человечишко без полета
безо всякого понятия о грядущем
неколебимо надеюсь
что другие продолжат мой труд
и дерзанья мои —
до конца доведут
1992 / 06.04.2007
Божественный Клавдий
[61]Обо мне говорят
будто я
порожденье самой Природы
но —
незаконченное порожденье
наподобие статуи незавершенной
наброска
или строк не дошедшей до вас поэмы
год за годом разыгрывал я придурка —
коренным идиотам живется легче! —
стоически переносил оскорбленья
и если бы кто задался целью
собрать все косточки
выплюнутые мне в лицо
разрослась бы целая оливковая роща
а может быть — и пальмовый оазис
образован я был всесторонне
Тит Ливий риторы филосóфы
по-гречески говорил я как афинянин заправский
хотя и великого Платона
мог представить лишь в лежачем положенье
а курсами усовершенствования
были для меня лупанарии и портовые таверны
и вслушивался я
в недошедшие до потомков
сокровища ненормативной латыни
исследовал лексиконы
всяческих злодейств и разврата
а уж как божественного Калигулу задавили —
попытался спрятаться я за край портьеры
но
выволокли меня насильно —
не успел я даже скроить задумчивую мину
как бросили к моим ногам Ойкумену
маленькую плоскую нелепую Ойкумену
и с тех пор заделался я трудоголиком великим
кесарем истории всеобщей
делопроизводственным Геркулесом
и с гордостью вспоминаю
как либерализовал я чинопоследование пиров
позволив
от трапезы не отходя
пускать под собою ветры
все эти упреки в жестокости излишней —
с негодованием отвергаю —
я был лишь немного рассеянным человеком
действительно
бедняжку Мессалину
ликвидировали по моему указанью
но ведь она сама
на вопрос исполненный укоризны —
«отчего это Вы мадам ко мне не явились?» —
посмела ответствовать гробовым молчаньем
я всё это отчетливо помню
случалось
приглашал я и мертвецов
партию-другую сразиться со мною в кости
а кто увиливал от приглашенья —
на тех налагал я всякие штрафы
перегруженный державными трудами
был я способен и вдаваться в детали
не забыл я распорядиться
придать сотни три сенаторов смертной казни
да заодно и всадников три кентурии
...и такие казусы бывают...
а результат? —
немного меньше полос пурпурных
немного меньше искрящихся пéрстней
да и всё это — не без пользы для культуры
легче будет простому народу пробиваться в театры
но никто не пожелал понять
возвышенный смысл моих деяний
а я мечтал обустроить привычку к смерти
чтобы люди воспринимали смерть не столь панически и остро
чтобы смерть свели к вещам понятным и повседневным
наподобие тихой грусти или гастрита
и вот пожалуйста
свидетельство тонкости моих чувств
удалил я из пыточных помещений
статуи доброго кесаря Августа
да не покоробят нежный мрамор
неподобающие стоны и хрипы
а по ночам занимался я научной работой
писал историю этрусков
историографию Карфагена
эссеистику о Сатурне
введение в теорию игр
и трактат о змеиных ядах
это я
остановил нашествие песков у стен остийских
это я
осушал болота
это я
строил водопроводы
облегчая римскому коммунхозу
процедуры смывания крови
это я
расширил имперские пределы
за счет земель британских мавританских
и — если память не изменяет — фракийских
а в смертную сень
препроводила меня супруга моя Агриппина
да еще и страсть моя к белым грибам
грибы — субстанция леса —
стали субстанцией моей кончины
так припомните же потомки
с почтением и благоговением надлежащим
хотя бы одну из заслуг
божественного Клавдия —
добавив к латинскому алфавиту
новые буквы или акценты
я расширил ваши лингвистические пределы
и стало быть — пределы вашей свободы
любимые мои дочери
открытые мною буквы —
Дигамма и Антисигма
это они
поддерживали мою тень
когда нетвердыми шагами
опускался я в провалы Орка
1984 / 05.08.2006, Леоново
Цареубийцы
Сказывают
все они друг на друга похожи
воистину близнецы и братья
Равальяк или Принцип Гаврила
или кто-то там еще
чаще всего — в роду у них эпилептики и самоубийцы
но само они — здоровые средние человеки
как правило — молодые очень молодые
такими они и вступают в вечность
они одиноки
месяц за месяцем упражняются в кинжальных приемах
или в загородных лесах пробивают мишень за мишенью
готовя теракт они воспитаны и трудолюбивы
жалованье свое сдают матерям до копейки
заботятся о семействе
обходятся без друзей и любовниц
а свершив единственное в своей жизни дело
сдаются безо всякого сопротивленья
с мужеством завидным выносят пытки
никогда никого не молят о пощаде
все усилья приписать им соучастников — отвергают
«не было заговора
это я сам»
искренность их и простота
по ту сторону людских разумений
они тревожат судей адвокатов публику падкую на скандалы
тревожат они и тех
кто по должности обязан
обрывать последние их минуты
покой безгневье отсутствие сожаленья
ненависти — ни грана
почти лучезарность
а в ходе вскрытий
им разворачивают мозги
взвешивают сердца
кромсают желудки
только вот никакой патологии не находят
никто из них
хода времен не переиначил
но из рода в род несли они какое-то темное посланье
а если что-то было в них вниманья достойным —
разве что маленькие ладошки
умевшие распорядиться
точностью
ударов судьбы
1984 / 06.08.2006, Леоново
Лех Конопиньский (р. 1931)
Лех Конопиньский — поэт-сатирик, много сделавший для осовременивания традиционной польской «фрашки» (краткой сатирической максимы). Краткие стихотворения Конопиньского — как бы поэтическая транскрипция польской городской смеховой культуры послевоенной эпохи. Этим стихи могут шокировать поэтического или морального пуриста, — но такова была жизнь в условиях послевоенной деморализации и разрухи. А смеховая культура, как известно, — одна из предпосылок исторического выживания народов.
О массовом композиторе
Он громко заявлял, и не однажды:
«Бетховен был мастак, хоть слух имел неважный».
1950-е гг. / 1960
Rok’n’rollista z Maroko...
Рок-н-роллист из Марокко,
вздыхая глубоко-глубоко,
глаз не спускает с окон...
С каким упоением сам бы
сплясал он фокс или самбу...
Бедная жертва рока,
бедная жертва Рока —
заезжий танцор из Марокко...
1950-е гг. / 1960
Расписание
В понедельник —
ухитрился выпить без денег.
Во вторник —
четвертинку дернул.
В среду —
шарахнул к обеду.
В четверг —
душа заправки просит:
в четверг вечером иду к Зосе.
Суббота-воскресенье —
пир да похмелье!
А вот пятница —
исключается:
читаю лекцию в средней школе.
Тема лекции:
«О вреде алкоголя».
1950-е гг. / 1962
Из размышлений над теоремой Пифагора
Жена в треугольнике — скромный катет.
А муж — осёл. И притом — в квадрате.
1950-е гг. / 1963
Ежи Харасымович (1933-1999)
Ежи Харасымович — один из выдающихся польских поэтов второй половины прошлого века. Лирик по преимуществу. Тонкая и певучая лирика зачастую оттеняется элементами самоиронии, стремящимися как бы снизить, «обыграть» и заклясть столь свойственное лирическим поэтам искушение нарциссизма.
Образы леса, пейзажей и истории юго-восточной Польши (в частности, и обезлюдевшей после Второй мiровой войны Лемковщины, этой разрушенной людьми «страны красоты — kraju łagodności»[62], придает поэзии Харасымовича особый колорит.
А таинство леса — этого, по словам поэта — «зеленого абсолюта», — несомненно, от Лесьмяна...
Хокусай
Который год
в одежде
от старости истонченной
в одежде пропыленной
блуждаю по лесам
словно Хокусай
Который год
влагой золотою
влагою лесною
всё рисую удлиненные глаза
летних вечеров
Но
тот ли настой тягучий
омытый кровью вишневой —
моя смолистая влага?
Который год
рисую я подсолнух
пропетый воробьями
Но
тот ли настой тягучий
тот ли закат осенний
стекает каплями воска
на золотой подсвечник?
Который год
о лес
отче мой и владыко
рисую твои вершины
в венце шумящей листвы
Но
как настой тягучий
пахнут осенние буки —
неужто они твои?
Всё как будто по-твоему —
и дым горьковато-синий
и слезы твоих дождей
растекшиеся
по ветвям
Но
не настой ли тягучий —
воздух
осенних дней?
1961 /1962
Подарок
Купил я ей
поэтический зонтик
с пурпурной бахромою метафор
Волосы у ней —
воронова крыла —
но такое светлое тело
что в летний зной
во время прогулок
ей решительно необходим
этот мой зонтик
Разумеется
поэтический зонтик —
дар старомодный
если не сказать старосветский
Пару раз она с ним пройдется
да и за шкаф забросит
Но по счастью
мой поэтический зонтик
понадобится
не только ей —
он понадобится
еще многим
Скольких еще —
Бог весть —
порадует сей подарок
1979 / 01.11.2004
Стихи о любви
Милая
Как живется тебе?
Как творится?
Старый твой стол
да настуженный кров
За окнами церковь
Крылами синица
тихо взрывает
клочья снегов
Как с разлукою
справиться сможем?
Да и помнишь ли
обо мне?
Словес владыкою
ясновельможным
прилечу
на словесном коне
Сквозь снег и стужу
к тебе бросившись
за тридевять виршей —
издалека —
почти что
Георгий Победоносец[63] —
не щит и копье —
анемоны
в руках
Прорвусь
сквозь двери
коморки тесной
весь в снегу
смеясь и любя —
и вознесу
на незримых ручищах кресло
и стол
и вместе с ними —
тебя
1979 / 01.11.2004
Мечислав Михал Шарган (род. 1933)
Мечислав Михал Шарган — поэт, театральный деятель.
*
Хлещет и хлещет
дождь... И ночь — бесконечна...
Но как рассказать?..
1959 /2004
Збигнев Стшалковский (род. 1933)
Збигнев Стшалковский — поэт и скульптор. Отец его был расстрелян в Катыни. Сам будущий поэт воспитывался в приютах, свои «университеты» начинал с ремесленного училища и с работы в цеху. Получил искусствоведческое образование в Люблинском католическом университете.
Тема сиротства — личного, национального, универсального — и тема тоски по отечеству земному и Небесному — стержневые темы в поэзии Стшалковского.
Катынь
напрасно ты стучишься в стволы дерев
умерли деревья давным-давно вместе с ними
и в листве следы их ищешь ты напрасно
давным-давно опал кровавый багрянец
еще прежде самогó убиенья
телá их были спрятаны сокрыты
и на каждом дереве
на травинке каждой
поставлен был светильник молчанья
но мы забывать — не в праве
возводил их на Голгофу
автобус черный
им стреляли в затылки
с методичностью фашистской
каждому — по отверстию — по алой звезде
и эта звезда
вовек не погаснет над Польшей —
так зачем же безмолвствует она
зачем не взрывается гневом
в небесах холодных России?
кого-то расстреляли чуть ли не нагого
кто-то сумел проглотить пуговицу мундира
прежде чем в ров опуститься смертный
кому-то —
наверное трижды обреченному смерти —
руки проволокой скрутили
а кто-то сумел зажать зубами
ладанку родовую
чтобы в конце концов привела она его в Отчизну
а кому-то из живых мишеней —
под грудою тел —
смерть досталась в рассрочку
воистину —
каталог безыменных тел
и каждое — словно бы исторической сноской —
помечено алой звездою
и вся эта свалка тел в лесу белорусском —
лишь малая доля в расходных журналах войны
но женщины оплакивающие их — всё еще живы
и всё еще жив поэт
что оплакивает отца родного
которого
выволокли на рассвете
в одной рубахе босым
листопады апелляций безмолвных
под плитами могил Неизвестного солдата
черными пальцами записаны местá постоев
и сама совесть
обязывает посылать в бесконечность
тысячи апелляций безмолвных
только Тому
Кому разрешить прошения наши под силу —
Господу нашему Богу
и нужно
чтобы трав белорусских покровы —
эти святые целования смерти —
стали бы Трапезою Пасхальной
и сливались бы православные песнопенья
с легкими взлетами пуховыми аллилуйи польской[64]
нужно
чтобы белой скатертью прощенья
убелились польские мундиры[65]
отче мой — да будет тебе упокоение Господне
Lublin 1989 / 15.11.2011
Эрнест Брылль (род. 1935)
Эрнест Брылль — поэт, драматург, прозаик. Публикуемый здесь зонг написан специально для выполненного Брыллем перевода знаменитой мистической драмы русско-еврейского писателя и этнографа Семена Акимовича Ан-ского-Раппопорта (1863-1820) «Одержимый (Ха-диббук)». Брыллевский зонг — поэтическая заставка к пьесе о страданиях хасидской девушки, в которую вселился дух ее внезапно умершего возлюбленного.
Заставка к польскому варианту пьесы «Ха-диббук»
Коль нас Господь к Себе подъемлет, —
Зачем, из вечности спеша,
срывается на эту землю
собой не ставшая душа?
Зачем душе такая прыть
в ее паденье несвободном? —
Чтоб из провалов преисподней
возобновить, восстановить
себя в подъеме благородном.
Коль нас Господь к Себе подъемлет, —
зачем, из вечности спеша,
срывается на эту землю
собой не ставшая душа?
Взмывая ввысь, наш малый свет
в Огне Творящем растворится.
Душа — подстреленная птица,
когда в ней примиренья нет...
Струна дрожит, и звук родится.
Но нас Господь к Себе подъемлет,
и всё ж, — из вечности спеша,
срывается на эту землю
собой не ставшая душа...
1988 / 13.04.1991
Кшиштоф Грущиньский
К сожалению, никаких данных о Кшиштофе Грущиньском в польских поисковиках я не обнаружил. Но верю, уважаемый читатель убедится, что Грущиньский — поэт оригинальной, мистической мысли и высокой культуры. Поэт недосказанного и непостижимого мiра.
Возвращение
Рабби Йехуда, сын Елеазара,
был из тех,
что вышли из-за проволоки колючей.
И вот, на каком-то из полустанков
повстречался ему какой-то земляк-еврей,
тоже из концлагеря освобожденный.
— Ты живой, учитель? — еврей воскликнул, — Неужто живой?
— Спасибо тебе за слова такие, — ответствовал рабби Йехуда, — ибо в том, что живой, — не был я вполне уверен.
И, поразмыслив, добавил:
— Много таких, которые еще живы, а думают, что уже мертвы. И много таких, которые мертвы, а думают, что всё еще живы...
— А я, рабби? — заволновался попутчик, — а я?
Уклонился рабби Йехуда от ответа.
Оба ехали в поезде далеко и долго, встречая по дороге и живых, и мертвых, но отличить их друг от друга было невозможно.
? / Warszawa, 30.01.1993
Подражание
Тот мiр, который нам вéдом, — не более, чем копия мiра.
Дворец в Пекине — не более, чем копия дворца в Пекине.
А ты, идущий путем-дорогою, — не более, чем копия самого себя, идущего путем- дорогою.
Ли Сунь, говорящий эти слова, — не более, чем копия Ли Суня, говорящего эти слова.
А чтó такое — эти слова?..
? / Warszawa, 30.01.1993
*
Ангелы слетаются как птицы[66]
чтобы средь полей остановиться
и стоят они в нимбах золотистых
направо — горы
налево — корабли и вóды
под ногами их — земли содроганье
над главами их — темнеющее небо
Говорят об Ангелах дети
будто сотворены они из ничего да из перьев
Но состав их — иной и непонятный
и сияют Ангелы среди ночи
черно-золотым и призрачным светом
А поутру они с бездомными бедняками
отогреваются на городском пляже
а потом — коли случится такая удача —
нанимаются статистами на киносъемки
Бог Ты мой всё соткано из фантомов
фантомно небо
фантомны горы моря и пальмы
Бог Ты мой потихоньку да полегоньку
пожирают фантомы видимые предметы
Отрицанием видимого мiра
день склоняется к своей кончине
вечерняя заря наступает
Никнут Ангелы главами
и вечность — короче мгновенья
? / Warszawa, 31.01.1993
Юзеф Ольшевский
О Юзефе Ольшевском мне почти что ничего не известно, кроме того, что 25 мая 1990 г. я был случайно приглашен в его скромную квартирку в окраинном варшавском районе Жолибуж и провел в беседе с ним целый вечер. Говорили не о себе, но о стихах, читали друг другу свои стихи. Этот совсем уже немолодой поэт удивил меня своей открытостью и приветливостью. Обоих нас обрадовала общая любовь к поэтическому наследию Броневского. Ольшевский подарил мне книгу своих стихов «Источник»[67] с надписью: «Мне бы так хотелось, чтобы Вы подружились с моими стихами». Я, действительно, «подружился» со стихами этого искреннего и метафизичного поэта. И хотел бы «подружить» с ними своего читателя.
Мифология
Откуда ты являешься — неважно
Ты — птица о четырех стихиях
Ты держишь диск палящего солнца
символ извечный коловращенья
Охотники за словами
поклоняются тебе
вознося свои руки горé
Крылья твои
прозреваются в огнях заката
Из гниющей плоти твоей
вырываются пчелы и сны
и ты сама им внушаешь —
нет различья между жизнью и смертью
И от их лица
приветствуешь ты тучи
звездный пламень
земные предметы —
будь то благоуханные стога
будь то фигурки кузнечиков
в отверстых книгах травы
Откуда ты являешься — неважно
Неважно
Ранее 1985? / 31.07.1993
Поиски
Чтó ищут люди
в словах
в водáх
во тьме долин
Чтó ищут люди
в деревьях
во внутренностях птиц
или в озерах
Чтó ищут люди
в наших тенях — издерганных искривленных —
в тенях зверей и строений —
отголоски
своих же страхов
своих же борений
над обрывами существованья
Чтó ищут люди
чтó они ищут за тени
в самих тенях
в гримасах
в случайных обрывках речений
в облизывающей песок волне
В издевке в забвенье в тоске
Ранее 1985? / 01.08.1993
Каждый...
Каждый — неси в самом себе
незатворенное окно
запертые двери
и брошенный дом
Чью-то дружбу
историю какого-то неведомого рода
какую-то беспомощную свободу
и — ненависть
И в этой капельке знанья
должно отразится всё —
страны города и люди
ночи и дни
И в этой капельке знанья —
даже в строчке стихов —
нас должна застигнуть смерть
в сердцевине которой —
забвенье и гибель противоречий
Ранее 1985? / 02.08.1993
Опус № 9
Янушу Сукенницкому
Сбиваются звезды в пылающую точку
Не ведаю — чтó их гонит —
свобода ветер любовь?
В распростертых руках дерев
шелест невыговоренной Вселенной
Ночь пролетает
за нею — искрящийся шлейф
срываются листья кружась
Ранее 1985 / 01.08.1993
Лукаш Перковский
Лукаш Перковский — поэт и музыкант. В стихотворении, приводимом ниже, явно прослеживается музыкальный, сонатный характер композиции.
Свеча
Когда стечет последняя капля воска
и всё вокруг обоймется тьмою —
сам не ведаешь чем охватит твою душу
и чтó за словá с губ твоих сорвутся
когда стечет последняя капля надежды
и всё вокруг одиночеством обоймется —
горечь горькая овладеет душою
и болью жгучею заклеймится сердце
а в устах — полуслышное бормотанье
когда стечет любви последняя капля
и всё вокруг тебя гневом обоймется —
ярость охватит твою душу
а из уст — выплеснутся проклятья
а уж как стечет последняя капля веры
и всё вокруг тебя хаосом обоймется —
сам не ведаешь чем охватит твою душу
и чтó за словá с губ твоих сорвутся
когда стечет последняя капля воска —
всё вокруг обоймется тьмою
18.07 — 30.08.95 / 11.05.2002
Республика поэтов: вместо послесловия
Самое уместное дело — добавить к поэтическому сборнику поэтическое же послесловие. Послесловие о республике поэтов.
На мой взгляд, полноправные граждане этой республики — не только сами поэты, но и их вдумчивые и благорасположенные читатели[68].
Ибо какая же поэзия — без читателя? Более того, я писал в одной из своих книг, что поэзия всегда предполагает (предполагает в самой себе!) некоего адресата: сам процесс поэтического труда, или, по Пушкину, — «пламень труда»[69], предполагает акт воздвижения поэтом в самом себе адресата: читателя-собеседника.
А кто же «пан президент» в этой республике, одна из неотъемлемых областей которой — польская поэзия вкупе с огромным массивом ее русских переводов? — Толком не знаю, да это и едва ли важно. Может быть и Мицкевич, и Норвид, и Стафф, и Броневский, и Милош... Для меня, скорее всего, — мой старший современник Леопольд Стафф... — Но это едва ли важно. Поэзия свободна в своих предпочтениях. Главное, что мы находим друг друга в пространствах общей нашей республики.
Отрывок
...ce rêve étrange et pénétrant...
Verlaine[70]
...а нынешнею ночью снилось мне,
что я живу в республике поэтов,
которая повсюду и нигде...
Труды поэтов были нелегки
и обстановка, вроде, бедновата...
Но —
безо всякой классовой борьбы
за полстраницы в глянцевом журнале,
за жалкие, но платные минуты
эстрадного верченья пред толпой...
А встречи были скрỏмны и нечасты:
немного хлеба да немного яблок...
Единственная роскошь этих встреч —
златое италийское вино
да тонкие хрустальные бокалы
с их легким звоном...
И не было насилья болтовни.
Немного слушали, но более молчали.
...............................................
Я как-то шел по улице широкой
и в нашем полузабытье привычном
потерянные рифмы подбирал...
Как вдруг случайный уличный прохожий
мне прошептал: «Да погляди вперед, —
пан президент идет тебе навстречу...»
То был весьма забавный президент.
Он никаких не издавал указов,
не диктовал секретных шифрограмм
и к нам не посылал убийц наемных...
Он просто изредка слагал стихи,
и лишь сама их гибкая чеканка
и сам их тонкий неразменный смысл —
всё берегло непринужденный строй
таинственной республики поэтов.
И он на тихое приветствие мое
ответствовал полупоклоном легким —
приветливым, безмолвным и учтивым.
И в ту минуту сердце прохватило
сияньем тихим от его лица.
И лик был тонок...
Был он рыжеват
(таким описан царь-поэт библейский)[71],
но проседь, серебрившая его,
поведала о травле и страданье...
И мне передалась его печаль,
но только я не понял, как ответить
на эту ласку, на доверье это...
...Как вдруг приснилось мне:
на ближнем взгорке
пронесся некий черный паровоз,
забрызганный кипящими маслами,
и задрожал тогда мой ветхий дом,
и сад запущенный мой охватило лязгом...
И я проснулся чуть ли не в слезах,
вернувшись от своих утопий сонных
в живое и больное Мiрозданье...
И всё ж — благодарю за странный сон
о призрачной республике поэтов,
которая повсюду и — нигде...
22.04.2008 (Великий Вторник)
Примечания
- «Так надень свой перстень изумрудный…» – Константы Ильдефонс Галчиньский.
- Обоснование понятия осознанной свободы вопреки понятию «осознанной необходимости» дается в моей книге «Осознанная свобода. Материалы к истории мысли и культуры XVIII – XX столетий» (М.: Новый хронограф, 2005).
- С этой концепцией меня ознакомил профессор Ягеллонского университета Вацлав Валецкий.
- Господи, помилуй! (греч.).
- Nieszpory – от лат. vesperae – вечерня.
- Даю эту цитату из Ветхого Завета в собственном переводе: Книга Притчей Соломоновых / Пер. с древнеевр., предисл. и коммент. Е. Б. Рашковского. – М.: Об-во друзей Священного Писания, 1999. С. 19.
- Пушкин, «Послание цензору».
- Имеются в виду особые тележки для курдюков, подпрягаемые к овцам и баранам. – Е.Р.
- “La guerre de Darius, fils d’Histaspes” («Военная экспедиция Дария, сына Гистаспа»). – Примеч. Трембецкого. Однако, речь, скорее всего, не о Дариевых слонах, но о костных останках мамонтов, которые ныне экспонируются в краеведческих и природоведческих музеях Украины. – Е.Р.
- Имеется в виду участие крымско-татарских, а также и турецких войск в Украинско-польской войне на стороне Хмельницкого (1648-1651); последние проявляли особую жестокость не только в отношении поляков и евреев, но и в отношении украинцев. – Е.Р.
- “Turc, qui nous communiquait la peste” («Турки, которые занесли нам чуму»). – Примеч. Трембецкого.
- Екатерина II. – Е.Р.
- Имеется в виду ликвидация правительством Екатерины гайдамацкого движения на Украине и Крымского ханства. – Е.Р.
- “Pontos Axenos appelẻ ensuite Euxinos” («Неприютное море стало позднее называться Гостеприимным»). – Примеч. Трембецкого.
- “Ordessa est le vrai et ancien nom; aujourd’hui Odessa” («Ордесса – имя подлинное и древнее; ныне – Одесса»). – Примеч. Трембецкого.
- Подробнее об этом (и вообще – шире – о проблеме «Пастернак и Словацкий») смотри в статье: Рашковский Е. Б. К самопознанию поэта: польская дворянская романтическая культура в поэтическом логосе Бориса Пастернака // Польская культура в зеркале веков. – М.: Материк, 2007. С. 399-401.
- См. Мф 5:9.
- По всей видимости, Норвид имеет в виду евангельскую Притчу о блудном сыне (Лк. 15:11 – 32). Возвращение в Дом отчий невозможно насилием: только с искренним сердцем и по доброй воле.
- Заглавие оригинала: “Laur dojrzały”. – Е. Р.
- В древних Афинах голосовали, бросая гальки в сосуд:: белые – за, черные – против. Отсюда и нынешнее русское выражение – «подбросить черный шар».– Е. Р.
- В этом стихотворении – несомненная перекличка с непереводимым, как мне кажется, стихотворением Юлиуша Словацкого «Автору Трех псалмов». Для Словацкого, человеческий дух – некий «вечный революционер», проницающий собой и перекрывающий отъединенность и страдания наших индивидуальных существований. Да и само начало стихотворения сознательно отсылает нас к «Гимну» Словацкого: “Smutno mi, Boże…” – Е.Р.
- Jastrun M. Wstęp // Staff L. Wybór poezjj. – Wr., etc.: Ossolineum, 1963. S. XXXVI.
- В майский день 1957 г., уже немощный и больной, уничтожив личные бумаги и юношеские записные книжки, поэт ушел из своей варшавской квартиры. Ушел, чтобы умереть в домике старого друга, у которого некогда, после разрушения гитлеровцами Варшавы, нашел приют, – у скромного приходского священника А. Боратыньского в местечке Скаржиско-Камéнная. Тадеуш Ружевич заметил, что миниатюра «Толстой» – последнее слово Стаффа о самом себе перед уходом в Скаржиско-Камéнную (см.: Jastrun M. Op. cit S. XXXVI). Исход из земной жизни для поэта – воссоединение с недосказанным, Вечным.
- Тувим Ю. Фокус-покус, или просьба о пустыне. Поэзия, Театр. Проза. – М.: РИПОЛ / Вахазар, 2008. С. 853-857.
- Nota bene. Написание музыкальной петрушечной мистерии, мистерии неразделенной любви и гибели «смешного человека» – знаменитого балета Игоря Стравинского – относится к 1911 г.
- См.: Тувим Ю. Фокус-покус…, с. 95-100.
- Мне посчастливилось знать одноклассника Тувима по лодзинской гимназии – ученого-цивилиста Марка Аркадьевича Гурвича (1896-1978). Характерным для него было привитое еще в гимназии великолепное владение классической русской речью.
- Wiliam Horzyca (1889 - 1959) – польский театральный деятель, приятель Тувима..
- В оригинале – Chandra Unyńska.
- Усиленное раскатистое «р» – характерная эмфатическая фигура в устной польской речи.
- См.: Мандельштам Н..Я. Вторая книга. – М.: Московский рабочий, 1990. С. 29–30.
- Подробнее об этом см.: Рашковский Е.Б. Осознанная свобода: материалы к истории мысли и культуры XVIII–XX столетий. – М.: Новый хронограф, 2005. С. 80–82.
- Этого великого болгарского поэта мещанская родня травила за его якобы цыганское происхождение. Мой перевод стихотворения Яворова «Маска» см.: Рашковский Е. По белу свету. Книга стихов. – М.: Рудомино, 2007. С. 148–150.
- См.: Притчи Соломоновы 5:6.
- “Paramount” – одна из голливудских кинофирм.
- В оригинале – mister Dupson.
- Как полагают некоторые комментаторы, стихотворение, скорее всего, навеяно творчеством композитора Кароля Шимановского. Мне не хотелось бы фантазировать, но, как мне кажется, возможным музыкальным прообразом этого стихотворения могла послужить Соната для скрипки и фортепьяно.
- На мой взгляд, одна из вершин переводческого мастерства Броневского – есенинский «Пугачев»
- Броневский Вл. Два голоса, или Поминовение / Поэзия. Проза. – М.: Этерна / Вахазар, 2010. – 906 с.
- В этом стихотворении читатель, несомненно, обнаружит отголоски стихотворения Артюра Рембо «Париж заселяется вновь» (1871).
- У этого стихотворения – глубокая автобиографическая подоплека. В сентябре 1939 г. Броневский идет добровольцем в Войско Польское. В январе 1940 поэт по грязному навету был арестован советскими «органами» во Львове. Намаялся в советских тюрьмах и лагерях, а затем – через Среднюю Азию – был направлен на Ближний Восток в составе польских частей генерала Андерса. Горестный опыт пребывания на «родине мiрового пролетариата» в сочетании со страшными вестями из Польши, оккупированной гитлеровцами, смутное чаяние будущего возрождения родины – всё это и обусловило содержание и тональность стихотворения «Мавзолей Тамерлана».
- И у этого стихотворения – опять-таки глубокая автобиографическая подоплека. На Ближнем Востоке поэта застигли вести о гибели множества его еврейских друзей (им поэт посвятил стихотворения «Баллады и романсы» и «Польским евреям»), а также ложный слух о гибели в Освенциме его жены, актрисы Марии Зарембиньской, узницы под номером 44739. С откликом на этот ложный слух связан и стихотворный цикл «Древо отчаяния» (переводы Ахматовой, Пастернака, Мартынова, Слуцкого, Кудинова и др.).
- См. примеч. 42
- Здесь используются при переводе уже прочно вошедшие в нашу словесность переводы из позднего Мицкевича, принадлежащие Владимиру Галактионовичу Короленко («Над водным простором…») и Вере Клавдиевне Звягинцевой («Отлились мои слезы, лучистые, чистые…»). – Е.Р.
- Гомолицкий Л. Н. Владимир Слободник // Гомолицкий Л. Н. Сочинения русского периода. Т. 3. – М.: Водолей, 2011. С. 225.
- Разумеется, по западной пасхалии. См.: blogoslowieni-i-swieci.blog.pl/id,586813,title,SwFaustyna-Kowalska,index.html?..
- «Кукла» – намек на знаменитый роман Болеслава Пруса. – Е. Р.
- Намек на речения из Нового Завета (Лк 11:5-8, Откр 3:20) – Е.Р
- Перевод осуществлен по изданию: Wojtyła K. Poezje i dramaty. – Kr.: Znak, 1987. S. 95-97.
- Рашковский Е. Б. Православные праздники. – М.: Эксмо, 2008. С. 79-80.
- Правда, следует иметь в виду, что Мицкевич и в особенности Норвид в своих поздних поэтических миниатюрах искали пути преодоления этой «барочной» и романтической выспренности и многословия.
- Об этой стороне творчества Стаффа см.: Рашковский Е. Б. «Душа молчанья» (заметки о лирике Леопольда Стаффа) // Восток – Запад. Исследования. Переводы. Публикации. Вып. 4. – М.: Наука-ГРВЛ, 1989. С. 285-294.
- Вспомним в этой связи бергсоновскую категорию «жизненного порыва»: élan vital.
- Эту тему читатель легко обнаружит в публикуемом ниже стихотворном цикле Кароля Войтылы.
- Wielością rzeczywistości.
- Вспомним поэтические опыты Блока («Она пришла с мороза…»), Кузмина и Хлебникова, а также один из вершинных опытов нашего верлибра – «Послушайте!» Маяковского.
- Намек на строки из гимна-полонеза Францишка Карпиньского ( 1741-1825). Гимн исполняется на полуночном Рождественском богослужении:
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosłow Ojczyznę miłą…
- Вольные цитаты из Карпинтского:
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony…
Co masz, niebo, nad ziemiany?.. - Скрытая цитата из «Рождественской звезды» Пастернака.
- Последние слова Гамлета в шекспировском оригинале: “The rest is silence”.
- Это стихотворение – трагикомический пересказ Книги пятой «Жизни двенадцати цезарей» Светония («Божественный Клавдий»).
- О малоизвестной историкам, не говоря уже о широкой публике, трагедии Лемковщины см.: G. Motyka. Od Wołynia do akcji “Wisła” // Więnź. W-wa. 1998. # 3 (473)/ S. 109-133.
- Поэт считал Св. Георгия своим небесным покровителем; он даже полагал, что у него могла быть в прошлом и некая условная православная ипостась – Георгий Преображенский.
- В католическом богослужении экстатический возглас «Аллилуйя!» (евр.: халелу Йа! – «хвалите Господа!») отменяется от начала Великого Поста до Пасхи. Так что возглас этот является знаком облегчения, знаком катарсиса, знаком Пасхальной радости. – Е. Р.
- Опять-таки – литургический символ. В дособорном католическом богослужении перед Евхаристической трапезой алтарная преграда накрывалась белой скатертью. – Е. Р.
- Аллюзия на хрестоматийное стихотворение Юлиуша Словацкого. У нас оно известно благодаря переводу Бориса Абрамовича Слуцкого.
- J. Olszewski. Źródło. – W-wa: Krajowa agencja wydawnicza, 1985. – 78 s.
- Конечно же, в этой республике – как и во всяком царстве-государстве – есть не только законопослушные граждане, но и свои преступники: халтурщики, претенциозные недоучки, недобросовестные толкователи, сикофанты… Но речь – не о них.
- «Разговор книгопродавца с поэтом». Четыре десятилетия спустя это же словосочетание – не знаю, какими судьбами – появилось в Первом томе «Капитала» Карла Маркса.
- «…этот сон, странный и проникновенный…» – Верлен.
- «И был он рыжеват (ве-ху адмони)…» – I книга Самуила (I Царств) 16:12.
